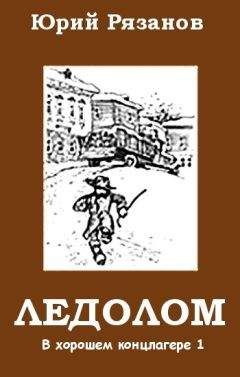Рязанов Михайлович - Наказание свободой
— Посадят тебя по новой. И всё равно заставят трудиться. Опять ямы копать. Так не лучше ли самому выбрать занятие по душе? — убеждал его я. — Ты же знаешь, у нас все должны работать. Чего же рогами упираться в паровоз?
— Это ещё надо посмотреть, — мрачно растянул губы в подобие улыбки Саша. — Может, и заставят. Силком. А сам я — не дурной, чтобы в ярмо лезть. Во, кнокай, какие мозоли. Пущай другие так повкалывают. Нашли фраера! А ху они не хо?
И никакие доводы не действовали — Саша оставался неколебимым. К моему великому огорчению.
Наш «пятьсот весёлый» (надо же, сколько лет прошло, а название поезда для простого люда осталось прежним) уже миновал развалюхи и землянки посёлков «Партизан» и «Нахаловка». Пора было заканчивать последнюю душеспасительную беседу с Сашей. Моё сердчишко заёкало, когда из клубов паровозного дыма возникли знакомые очертания челябинского вокзала. Последний раз это двухэтажное бело-зелёное здание я рассматривал через перекрещённое металлическими ржавыми пластинами окошко вагона, предназначенного для перевозки восьми лошадей или сорока зеков. В него ухитрились затолкать вдвое больше. Потому что это были не «человеки». То были мы — зеки.
Сейчас вокзал плыл мне навстречу, как корабль. Как великая, торжественная награда. Я стоял, вцепившись в поручень, рядом с хмурой проводницей и ликовал в душе.
Я рапрощался с Сашей, опять светившимся милой улыбкой. Спохватившись, вытряс из кармана деньги, зачем-то оставив лишь однокопеечную сверкающую новенькую монетку.
— Это — тебе. Не знаю, хватит ли до дому. Но постарайся растянуть, — сказал я, засовывая деньги в Сашин карман зековских брюк.
— Не надо, — не очень уверенно воспротивился кореш. — Не пропаду. Будет день — будет пища.
— Зачем тебе из-за куска, чтобы не голодать, горбом рисковать? И других обижать? А я — уже дома.
Я еле удержался, чтобы не спросить, правда ли, что он украл телогрейку, чтобы купить несчастную «Кориандровую». Или наскрёб своих, кровных? Но не спросил. Почему-то поверил, что не украл. Не созрел ещё для этого. Но вскоре может отчаяться. И как-то следовало бы остановить его от опрометчивого, возможно рокового, шага. Если б ехал с ним и дальше… Но тут наши пути расходятся. Пока. Вдруг…
Мы обнялись, словно знали, что больше никогда не увидимся. Саша весело болтал, упомянув, что Валя оставила ему свой домашний адресок («наколку»).
— Гарная дивчина, — сказал он. — Но я с ней ещё разберусь — никуда от меня не денется.
«Слава богу, что не разобрался в тамбуре, — подумалось мне. — Обошлось без скотинизма».
— Хорошая девчонка, — подтвердил я. — Желаю успеха.
Что меня удивило, так это напутствие проводницы. Она пожелала мне счастья. За неделю пути я, похоже, первым удостоился такой чести. И не мог разгадать, чем столь благосклонное отношение к себе заслужил у всегда угрюмой женщины.
— Ты только до дома доберись, — попросил я Сашу. — А там всё хорошо пойдёт. И дружеский совет тебе: будь самим собой.
Перед тем как войти в широкие двери вокзала, я начертил карандашом свой (мой!) челябинский адрес: «Свобода, 22», вырвал листочек из записной книжки и вручил его Саше.
— Чо, в натуре — Свобода? — недоверчиво уточнил он. — Рази такие улицы бывают?
— Есть, Саша. Свобода.
— В натуре?
У меня возникло ощущение, что все дни, проведённые вместе с Сашей, я сражался с кем-то или чем-то невидимым, но ощутимым, постоянно присутствовавшим рядом. И он, этот кто-то, сейчас посмеивается надо мной, оставаясь один на один с корешем. И я не знаю, как друга избавить от этого призрака.
Как будто и за Сашей оттуда, из той помойной ямы, чья печать оттиснута на наших волчьих билетах — справках об освобождении, тянется невидимая нить. И даже не нить, а что-то живое, приросшее. И эту связь надо разорвать. Перекусить. И она, как щупалец фантастического чудовища, втянется внутрь себя. Без Саши. И без меня.
— Сообщи о себе. Как только доедешь. Обещаешь? — крикнул я, обернувшись. Поезд ещё не тронулся, но мне не терпелось как можно быстрее оказаться наконец-то там, где многократно пресутствовал во сне и в воображении.
Саша согласно закивал головой.
Но письма от него я не получил…
Знойное солнце плавило лишь стёкла окон верхнего этажа вокзального строения. Пыльные листья станционных тополей обвисли, обессиленные дневной жарой. Меня томили многодневная усталость и похмельная опустошённость. Но их пробивала и электрическим разрядом пронизывала радость великого обретения: Я — дома! Наконец-то я дома! Меня ждет МОЙ дом.
У выхода с вокзала на площади стояла лоточница в накрахмаленной наколке и грязной белой куртке и торговала бутылочным жигулевским пивом. Мне сразу захотелось пить — во рту установилась жестокая сушь. Возле торговки спиной ко мне стоял невысокий мужчина в потёртом кожаном пиджачке. Фигура его показалась мне знакомой.
— Две, — сказал владелец комиссарской куртки, которую он не снимал даже в такую дикую жару. — И бутербродик с сыром.
Я подошёл поближе. Это был немтырь. Наверное, на мои рублёвки приобрёл он это чудесное пиво. Похоже, к тому же — холодное. Не поздно, наверное, было возвратиться на перрон, к Саше, и вместе с ним купить и выпить по бутылке, но я мужественно прошёл мимо соблазна.
Тем же, что и прежде, маршрутом трамвая добрался до своей остановки и ликовал всю дорогу, жадно вглядываясь в мчащиеся навстречу дома.
Чувство ликования переполняло меня, когда я шагал по выщербленному тротуару, неотвратимо приближаясь к заветным воротам.
— Кто же встретится мне первым? — беспрестанно возникал и исчезал вопрос.
Мне очень хотелось увидеть первой именно Милу. И сказать ей одно лишь слово:
— Здравствуй!
Я подошёл к ещё более накренившимся воротам, нажал на отполированную ладонями кованую клавишу, тёплую и липкую на ощупь, приоткрыл калитку: двор был пуст. И тих. И весь в зелени, уже чуть посеревшей в пока не осевших, но уже угадывающихся сумерках. Дом и двор с обильной зеленью отдыхали от раскалённого, наконец-то завершившегося дня. И мне расхотелось шагать через весь двор на уже сереющие фасадные окна Даниловых. Несмотря на счастливую возможность встретиться с Милой — вдруг выйдет на крыльцо. Или в огород.
Я притворил калитку и потащился с нелепым своим чемоданом с винтовым замочком и алюминиевыми наугольниками дальше. Прошёл под окнами дома Васильевых, равнодушно взиравшими на пыльный тротуар, завернул в соседний двор, пересёк его наискосок, перелез через невысокий заборчик. Перед новой калиткой, высокой и закрытой изнутри, поставил чемоданище и нажал на фарфоровую белую кнопку электрозвонка — новшество.
Сердце громко билось, похоже резонируя в пустом чемодане. Я нащупал в кармане копеечную монетку, оставленную неизвестно зачем, положил её на ноготь большого пальца и метнул вверх, загадав: орёл — сбудется всё задуманное. Металлический кругляш взлетел так высоко, что золотом блеснул в невидимом потоке ещё не угасшего дневного света, пропал из вида и прошелестел где-то недалеко в густых зарослях акации.
1966–1994 годыКниги вторая
НАКАЗАНИЕ СВОБОДОЙ
Советские тюрьмы и концлагеря — основной инкубатор кадров преступности в нашей стране.
Автор
Девушку из маленькой таверны
Полюбил суровый капитан
За глаза пугливой дикой серны,
За улыбку, как морской туман.
Полюбил за пепельные косы,
Алых губ нетронутый коралл,
В честь которых бравые матросы
Поднимали не один бокал.
Каждый год с апрельскими ветрами
Из далёких океанских стран
Белый бриг, наполненный дарами,
Приводил суровый капитан.
С берегов, похожих на игрушки,
Где коврами стелются луга,
Для неё скупались безделушки,
Ожерелья, кольца, жемчуга.
А она с улыбкой величавой
Принимала ласки и привет,
Но однажды гордо и лукаво
Бросила безжалостное «нет»…
Он ушёл, суровый и жестокий,
Не сказав ни слова в этот миг,
А наутро в море на востоке
Далеко маячил белый бриг.
И в тот год с весенними ветрами
Из далёких океанских стран
Белый бриг, наполненный дарами,
Не привёл красавец капитан.
Девушка из маленькой таверны
Целый день сидела у окна,
И глаза пугливой дикой серны
Налились слезами дополна.
И никто не понимал в июне,
Почему в заката поздний час
Девушка из маленькой таверны
Не сводила с моря грустных глаз.
И никто не понимал в июле,
Даже сам хозяин кабака:
Девушка из маленькой таверны
Бросилася в море с маяка.
А наутро бешеной волною
Труп её был к берегу прибит,
И она с распущенной косою
На песке лежала, будто спит.
Они были верными друг другу
И погибли от сердечных ран —
Девушка из маленькой таверны
И моряк, красавец капитан.
Христосик