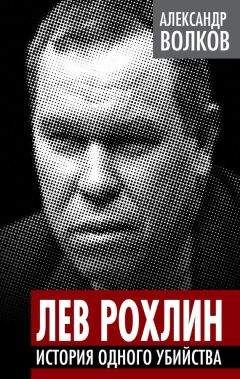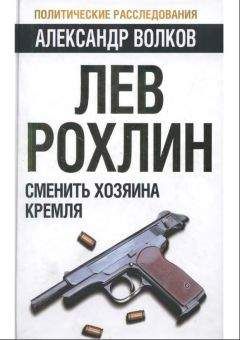Бернардо Ачага - Сын аккордеониста
«В любом случае гостиница – не только дом Берлино, – сказал Лубис, почувствовав мою неловкость. – Это ведь и дом Мартина и Терезы. А они оба – твои друзья». Рассуждение было далеко не идеальным, но мне больше не хотелось об этом думать. «Мне тоже приходится ездить в гостиницу, – продолжал Лубис. – Панчо все время там болтается. Из-за туристок. Он от них просто без ума, особенно от француженок. Если бы я ему позволил, он бы вертелся возле гостиницы все лето». Мы уже были у дома Аделы. Лубис остановился-»Входи один. Я пойду предупрежу маму. И сразу вернусь». Он перебрался через речку, ступая по камням, и вышел на дорогу.
Адела громко приветствовала меня, говоря, что очень рада снова меня видеть и что я хорошо сделал, придя к ней вместе со своими друзьями. «В нашем доме бывает мало студентов. Ты нам оказываешь честь, Давид». Адриан с Хосебой сидели за длинным столом на кухне и ели хлеб с сыром. Перед ними стояла уже почти пустая бутылка вина. Панчо сидел с ними.
За другим столом, поменьше, с понурой головой ужинал в полном молчании один из близнецов. «А где Себастьян?» – крикнула ему Адела. «Сегодня утром я видел его с Убанбе», – сказал близнец, не поднимая глаз. Он ел яичницу и тщательно вычищал тарелку огромным куском хлеба. «А Габриэль?» Это было имя другого брата-близнеца. «Не знаю». – «Ну так заканчивай ужинать и иди ищи его!» Адела глубоко вздохнула: «С ними просто невозможно справиться, Давид». – «Я рад, что у тебя в доме все по-прежнему, – сказал я. – Правда, Адела».
Панчо принялся стучать по столу. Он казался рассерженным. «Принеси еще сыра, Адела. Эти студенты едят, как звери, и мне ничего не досталось». Адриан сделал удивленное лицо: «Как? Ты все еще голоден?» – «А что я съел? – обиделся Панчо. – Кусочек мяса на обед. И ничего больше!» Адриан широко раскрыл глаза. «Говоришь, кусочек мяса? Ты настоящий каннибал, Панчо!» Хосеба рассмеялся. «Пусть, – сказал Панчо, не понимая шутки. – Но я хочу есть».
В дверях кухни появился Лубис. «Я тоже пришел поужинать, Адела», – сказал он. «А Беатрис предупредил? Если нет, то вот тебе телефон. Ты же знаешь, твоя мать всегда очень волнуется». Лубис жестом показал: звонить не надо.
Дверь кухни вновь открылась, и Габриэль, второй близнец, проскользнул к тому месту, где сидел его брат. «Ну вот! Пришел наконец!» – сказала ему мать. Адриан поднял вверх руки. «Слава богу! – воскликнул он. – Слава богу!» Адела взглянула на него, ничего не понимая. «Видеть, что ребенок возвращается к родному очагу – это всегда повод для радости», – объяснил Адриан. «Этому студенту больше вина не давать, сеньора, – сказал Хосеба. – Когда он пьет то говорит одни глупости». Но внимание Аделы уже было приковано к другому. «Ты совершенно мокрый! – сказала она Габриэлю. – Можно узнать, где ты был?» – «На реке», – ответил мальчик. «Это в такое-то время? А что ты там делал?» – «Я тебе объясню, Адела, – сказал Панчо. – Там водится мерзкая форель, и Габриэлю очень хотелось поймать ее и принести сюда для своей мамы и для всех нас. Но мерзкая форель никак не дается в руки». Габриэль стал усиленно кивать головой, демонстрируя свое согласие.
III
На смотровой площадке отеля обычно устанавливали маленькие подмостки со скамейкой и микрофоном, и, когда я начинал играть на аккордеоне, я оказывался совершенно один, изолированный от остальных; не в гостинице, не на площадке среди танцев, а как бы совсем отдельно, в стороне. Если при этом я еще надевал на голову шляпу, то впечатление было еще более сильным, и я чувствовал себя защищенным, укрытым от всех остальных. Это было словно возвращением в детство, когда я сидел на корточках между подпорками подмостков, грызя арахис и наблюдая за движением туфель – черные туфли, коричневые туфли, белые туфли – людей, танцующих под музыку Анхеля.
Люди собирались в гостинице к шести часам вечера. Молодые люди имели обыкновение стоять у перил смотровой площадки или на террасе кафе, куря сигареты и попивая куба-либре или джин-тоник; что касается девушек, то они спускались в сад и гуляли среди шпалер роз и клумб, чтобы уже ближе к семи часам пройти на танцы. Именно в это время я начинал играть легкие, ритмичные мелодии, и тогда все, и юноши и девушки, принимались кружиться и подпрыгивать в своих черных туфлях, коричневых туфлях, белых туфлях. В половине девятого наступал перерыв, а затем шло отделение медленных мелодий, таких как Черный Орфей или Маленький цветок. И тогда казалось, что двести или двести пятьдесят человек, танцующих на площадке, начинали сближаться и как бы уплотняться, пока понемногу, по мере наступления позднего вечера, не превращались в некую однородную массу, единое медленно движущееся тело.
Эта масса постепенно словно бы погружалась в сон – так в момент наибольшего равновесия застывает волчок. И тогда долина Обабы казалась спокойной и умиротворенной, и таким же спокойным и умиротворенным казался отель «Аляска». Часы показывали половину одиннадцатого. Тогда я выбирал какую-нибудь модную мелодию – летом 1970 года это был Казачок – и завершал ею танцы. Масса, это единое тело, встряхивалась, распадалась. Некоторые танцоры спешили домой; остальные оставались до самой ночи, кружась и подпрыгивая в своих черных туфлях, коричневых туфлях, белых туфлях.
Иногда я тоже будто погружался в сон, глядя поверх голов танцующих, поглощенный созерцанием пейзажа. Вначале долина Обабы была зеленой и свежей; потом, там, где горы и холмы словно охраняли маленькие, деревушки и отдельные домики, она становилась мягкой и нежной; а в самом конце, подходя к горам, обращенным в сторону Франции, казалась синеватой и бесплотной.
С наступлением темноты долина казалась более укромным местом, чем при свете дня. Загорались огни домов и поселков, и вся она заполнялась желтыми пятнами. Не прекращая игры на аккордеоне, я охватывал взглядом эти желтые пятна: сначала огни Обабы, потом лесопильни и сразу за ними – огни дома Вирхинии.
С моряком, за которого вышла замуж Вирхиния, в океане у Новой Земли произошел несчастный случай, и он уже более двух лет числился без вести пропавшим. Теперь она снова жила в своем домике у реки, на противоположном берегу от спортивного поля и, по словам моей матери, пребывала в подавленном состоянии духа. «Поскольку тела так и не нашли, считается, что траур не закончился. Поэтому она всегда ходит в черном или сером. Недавно я заговорила о том, чтобы сшить ей платье зеленого цвета, так она принялась плакать». У мамы, когда она рассказывала об этом, на глаза навернулись слезы.
Вирхиния теперь работала в кафе в новом квартале, и там я обычно видел ее, когда приезжал в Обабу провести конец недели или на какой-нибудь праздник. Как правило, я шел туда во время завтрака, когда кафе заполнялось клиентами, и сидел там, глядя, как она ходит взад-вперед – с булочками, с кофе – по другую сторону барной стойки. Наконец наступала моя очередь: она возникала передо мной и улыбалась мне. Особым образом – так мне, по крайней мере, казалось, – но как бы издалека, словно воспоминания о том времени, когда наши взгляды скрещивались в церкви Обабы, давно уже стали засушенными, цветами, картинками из прошлого. «Как там в Сан-Себастьяне, Давид?» Я что-то ей отвечал, и она приносила мне кофе или то, что я просил.
Были случаи, когда мы оставались в кафе вдвоем. Теперь у нее была очень короткая стрижка, и слегка волнистые волосы полностью открывали лицо: лоб, темные глаза, маленький нос, губы. Крестьяне Обабы сказали бы: «Вирхиния сейчас очень красивая». В таком же смысле, считая красоту состоянием, которое может как улучшаться, так и ухудшаться, я бы добавил: «Это правда, Вирхиния. Ты красивее, чем четыре года назад». Но я так никогда и не произнес этого. И ничего такого, что могло бы ей понравиться. Этому мешали образы, которые создавало мое воображение: судно терпит кораблекрушение; в комнате плачет женщина; звонит телефон и некий голос сообщает: «Тело все еще не обнаружено».
Иногда все менялось. Трагические образы у меня в голове рассеивались и заменялись другими – более простыми, более сильными, – возникшими под воздействием желания. Тогда я видел ее обнаженной, видел и себя касающимся ее груди, ее живота, ее бедер. И тогда меня охватывал страх; я боялся, что стоит мне открыть рот, как из него вырвутся слова, которых я не должен произносить: «Вирхиния, ты красивее, чем четыре года назад, пожалуйста, пойдем со мной». Я оставлял деньги за то, что съел, на стойке и уходил из кафе. Адриан сказал бы с полным на то основанием: «Если твой крокодильчик не укусит ее как следует, он сойдет с ума».
Я отводил глаза от желтого пятнышка, от света дома Вирхинии, и возвращался к танцам. Я видел перед собой обнимающихся людей; видел Опина с Убанбе, болтающих с компанией девушек; видел Хосебу с Адрианом, которые что-то пили на террасе, а иногда и Лубиса. Я завидовал им. Мне казалось, что они действительно живут в настоящем, живут летом 1970 года, и все, что они пережили раньше, уже давно исчезло из их сознания и их сердец; что прошлое было для них лишь некими флюидами, которые скользили по их душам, не задерживаясь там. Моя же душа продолжала оставаться комком вязкой каши. Ненависть, которую я испытывал к Анхелю, омрачала мои добрые отношения с матерью и время от времени уносила меня в мерзкую пещеру, как в ту пору, когда мне было четырнадцать-пятнадцать лет. А моя любовь к Вирхинии отрезала мне путь к другим женщинам. У меня уже не было привычки составлять сентиментальные списки, но, если бы я занялся этим, Вирхиния, несомненно, стояла бы на первом месте. Были и другие женщины, которые тоже меня привлекали, – например, Сусанна, Виктория, Паулина или мои приятельницы по ВТКЭ, – но они не годились для этих списков. Они скорее подходили для списков крокодильчика.