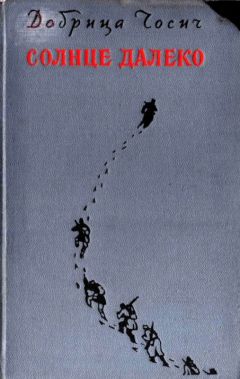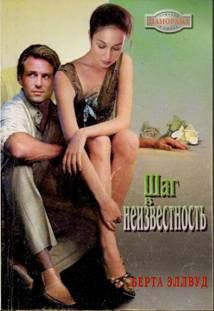Добрица Чосич - Время смерти
— А знает ли твой господин товарищ, когда придет поезд из Ниша?
Все опять пожелтело у Ивана в глазах. Он снял руку с плеча Богдана и допил оставшееся в стакане вино. Богдан взял его под руку и повел сквозь шум, песню, крики.
— У тебя есть сестра, Богдан? — шептал он ему в шею и останавливался, исполненный благодарности, что тот его поддерживает.
— Есть. На четыре года меня моложе.
— Тогда ты понимаешь, что такое вечная любовь. Сестра — это самый невинный грех, да? Тайный грех. Грех мечты. Самый сладкий и самый болезненный. Единственно известное из всех неизвестностей. Это — любовь. Так однажды сказал мой отец. Если б у меня не было сестры, я б и тебя меньше любил. Честное слово!
Он не был уверен, слышит ли его Богдан. Неважно, он говорил себе. Лицо Богдана было совсем близко, Иван отчетливо видел синий кровоподтек, который сейчас искривила улыбка.
— И я тебя больше люблю потому, что люблю Наталию. А теперь пошли к ребятам, которые сидят с девушками, будем смотреть на них и радоваться.
— Погоди, я вот что тебе еще хочу сказать. Я это в восьмом классе придумал. Не верить в длительность чувств. Любовь и все чувства бессильны перед временем. Ты согласен?
— Не согласен.
— Правда более независима чем время. Она более длительна, утверждаю я.
— Ну хватит на сегодняшний вечер метафизики. Айда.
— Еще одно слово. Ответь мне, но по-честному. Правду. Хочешь ли ты, то есть можешь ли быть мне другом независимо от моих взглядов? Всегда, до конца. Ты понимаешь, что я имею в виду.
— Разумеется. Ты и есть мне друг. До каких пор ты будешь сомневаться?
— Нет, я не сомневаюсь. Ты старше меня на год, а мне кажется — на двадцать. Не ясно мне это. Может, я в самом деле пьян.
Они присели к столику, где куча ребят плотно окружила двух девушек.
9Иван знал наверняка, что «Слобода» качается, куда-то падает, скрипит и гудит; поэтому он широко расставил ноги, развел локти и обхватил ладонями голову, защищая затылок, чтобы при неизбежном падении не расколоть его о потолок или стойку, более всего опасаясь за очки: если в этой черной бездне у него свалятся очки, даже Богдан Драгович не сумеет их найти. Что он обо мне думает? А как мне слепым погибать за отечество? Иван мучился, тщетно стараясь вспомнить: почему он пинал ногой в зады штатских, сбивал шляпы, фески, трое их, четвертый поднял стул, в сюртуке, тот, что угрожал Глишичем и воеводой Путником, в этого Иван промахнулся и ударил ногой в стену, наверное, сломал пальцы, болит, ну да, болит, можно и без пальцев погибнуть за отечество, да, тот вылощенный идиот в своей шляпе жирадо, когда выяснилось, что он член Государственного совета, посреди кафе «Слобода» бранил сербскую интеллигенцию, Пашича; по мнению таких господ, сербские военные не обладают мозгами даже самого обычного немецкого фельдфебеля; тогда он встал и ударил его ногой пониже спины, но перед этим залез на стул, на стул или на стол, и крикнул: «Dulce est pro patria mori»[61]. Шляпа кричала est, est, будто поправлял меня, будто я пропустил est, почему именно это я пропустил, да, вон он у стойки, этот в шляпе, он причина, то есть повод, он в самом деле оскорблял чувства студентов, сидевших в «Слободе», это единственная шляпа, и если б Богдан его не поймал, Богдан считает меня трусом, а я бы всех этих беженцев, и тыловых крыс, и шимпанзе пошвырял в Вардар; не надо было, не надо, зачем ему была нужна эта драка, упражнение перед схваткой, зарядка в «Слободе», первая драка в его двадцатилетней жизни, браво, Иван, единственная драка в «Слободе» в канун принесения великой священной жертвы за отечество, дело рук, следовательно, сына Вукашина Катича, морального и интеллектуального меча Сербии. В самом деле, папа, что же такое Сербия? Для великого революционера Богдана я petit bourgois, petit bourgois[62], где-то в отдалении, среди каких-то черных насекомых, рядом с тараканом, да, Богдану Драговину певичка что-то поет, и цыган со скрипкой, и Богдан в толпе с плетью, с башмаком Глишича на лице, и он поет, он упадет на спину, за ним упадет и певичка, эта кокотка, самым жестоким образом за всю его двадцатилетнюю жизнь унизившая его, но есть у этой курвы гениальное постижение людей: «Вы здесь единственный герой. Жаль, что вы не поручик, до оккупации весь Скопле говорил бы про нашу любовь». Он прекрасно слышал, тогда он еще прекрасно слышал, хоть выпил целый литр, и видел: к литровой бутыли прислонилась певичка с огромным бюстом, руку положила на плечо Богдану, хотя я звал ее и совал мамины динары. «Я обожаю дерущихся мужчин. Это истинные мужчины. Те, у которых на лице шрамы и синяки. Ей-богу, мне ужасно нравится целовать мужские шрамы от ножа». Вот так оно: тот, в шляпе, назвал воеводу Путника старым дураком и капралом, а Пашича могильщиком Сербии; а Богдан шептал, так шептал, что его весь наш взвод слышал, вот она причина: «Барышня, я по уши влюблен. Завтра в Крагуеваце меня ждет девушка, Наталия». Но благодаря мне, Богдан, ты этого не сказал. Поцеловал я, что ли, тогда Богдана за силу его характера и верность, такого парня должна любить Милена, а не какого-то там четнического павлина, или сразу вскочил, чтобы этому члену Государственного совета в битком набитой «Слободе» растоптать шляпу жирадо, такую же вот шляпу носит или носил мой отец Вукашин Катич, тоже член Государственного совета. «Люби моего друга Ивана. В Студенческом батальоне, во всей Сербии он самый нежный юноша. Я не вру, Драгиня». — «Богдан, друг мой. Знаешь ли ты самого себя? Вообще понимаешь ли ты, кто ты есть?» — «Понимаю, Иван, понимаю. Лучше всего понимаю тогда, когда ненавижу, еще точнее, когда люблю». — «Значит, милый Богдан, для понимания этой истины нужно и ненавидеть?» — «А как же». А как же: сербские Обиличи ползали на коленках перед сербскими барышнями и, скрывшись в темноте, клялись в вечной любви, болтали ужасные гадости и блевали, сама смерть не сумеет их отмыть; социалист играл роль друга и уговаривал кокотку сегодня любить меня за то, что у меня очки. «Я не могла бы целоваться с мужчиной в очках, правда, правда, будь он доктор, шубу б мне купил. Выпил литр вина и уже все видит до самых Салоник. Закажи ему молочка и отведи спать».
Данило История стоял на коленях между стульями, объяснялся какой-то девице.
— Сестра, я тебя обожаю. Никогда в жизни я никого так не любил. Ты моя первая любовь. Я тебе буду верен до могилы. Хочешь — завтра обвенчаемся? Я тебе надену кольцо. Я не прохвост, спроси у всего нашего батальона. Хоть я и с того берега Дуная. Я серб. Доброволец. Я переплыл Саву под пулеметным огнем, чтобы погибнуть за Великую Сербию. И за тебя. Выйдем, чтоб я мог тебя обнять. Пожалуйста, на минутку. Далеко мы не пойдем. Это я тоже выпью. Лей, лей мне в рот. Куда ты, погоди, еще одно слово. Дай я сам. Не столица ведь здесь, ей-богу. И ты не Шумадия, женщина. Ведь здесь не монастырь Грачаница, не Жича, мать твоя гулящая! Ой, господи, братья милые, какие жуткие, гнусные бабы живут на земле. Причем сербские! Фу! Иван, дай я разобью себе голову об стену.
Бессмысленно столь униженным погибать за отечество, Данило. Где твоя мужская гордость? А что там поет Богдан? Певичка и цыгане обрушиваются на него, а мне он великодушно предоставляет заносчивую, вонючую местную потаскуху, которой я не нужен, даже ей я сегодня не нужен, так я и не узнаю, что такое баба и где этот бугор Венеры, то, о чем знает вся скотина, то, из-за чего валяются на коленях сербские Обиличи, не хочу я на фронт не желаю погибать за отечество, пока женщина, женщина, пока я не с нею, не с женщиной, сперва здесь погибать, а потом в атаку за родину из хрестоматии по истории, Данило, скажи мне, сколько платят такой вот курве? Подумаешь, ну и пускай, что она заразная. Быть зараженным или незараженным покойником для сербской истории не имеет никакого значения. Воняет, смердит ночь. Свобода смердит, ужасно смердит жизнь, нужно неминуемо выблевать Скопле, тыл, двадцать лет, Иванку Илич, предполагаемую докторскую диссертацию, Свет и светлость, отечество выблевать: она молчит и ревет, неизбежно обрушивается в бездну «Слобода», с полумертвыми людьми в черную поросль, насекомые, шляпа жирадо, стакан. Это отвращение к Свету и светлости невыносимо болезненно; оно желтое, а все желтое улыбается, ему улыбается желтая смерть, девица в желтой шали подсела к нему и смотрит голубыми, ласковыми, чудесными, волшебными глазами.
— Не пришел еще, Иван, поезд из Ниша. И до утра не придет.
— Откуда ты знаешь мое имя? Ты здесь единственная барышня, которая зовет меня по имени. Странно, ей-богу, странно.
— Мне очень нравится, что ты любишь свою сестру. Мужчина, который любит сестру, уважает женщин. Он не может быть прохвостом. Мне нравятся только мужчины, которые уважают женщин.
— О желтая шаль! О желтая нежность! Да ты в самом деле умница, желтая ласка. Это Богдан тебе рассказал о том, как я люблю сестру?