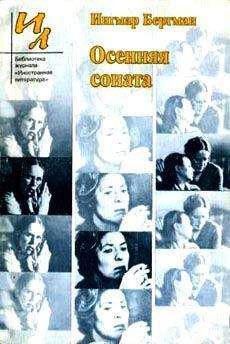Шарль Левински - Геррон
— Недостаток мужества, отваги и усердия в вере. — Гав, гав, гав.
Коллеги смиренно подставлялись излиянию этого заливного, как они перед этим терпели все технические перерывы. В армии и в кино привыкаешь ждать. Статисты — из тех, что были здесь уже не впервые, — даже радовались. Они знали: еще полчаса промедления — и они могут претендовать на обед. Только Магда Шнайдер поглядывала злобно. Не из-за того, что тут рассказывал фон Нойсер — содержание его речи она не воспринимала, — а потому что ее, звезду кино, заставляют ждать. Ведь на очереди была как раз ее сцена. Над ее носом постепенно намечалась вертикальная складка. Я помню, что подумал: надо бы зафиксировать это выражение ее лица, оно эффектнее, чем задорная шокированность, которую она постоянно играет. И которая выглядит как у моей мамы пансионский рот трубочкой.
Итак, Шнайдер постепенно нагнеталась для взрыва — она настоящая актриса, и нервы у нее никогда не отказывают без основательной подготовки, — но ее партнерша, коротковолосая, имя которой не могу вспомнить, хоть убей, незаметно отрицательно покачала головой. Этот жест я впоследствии часто наблюдал у самых разных людей. Не выделяйся, говорил этот жест, оставайся незаметным, никого не раздражай. Жест потерпевших поражение.
Фон Нойсер продолжал. Теперь считывая с бумажки. Даже самый отъявленный карьерист не может все запомнить наизусть.
— Господин рейхсминистр д-р Геббельс, — сказал он. — Реформировать в корне, — сказал он. — Подойти с верой. Творческая воля. Мужество нового времени. — И т. д., и т. д. И потом…
— Генеральная дирекция акционарного общества „Universum Film“, — пролаял он. Сказал не „УФА“, как нормальный человек, а полное длинное официальное название фирмы. Подлизнулся к УФА, как он подлизывался к Геббельсу со всеми его титулами. — Генеральная дирекция акционарного общества „Universum Film“ приняла на своем заседании 31 марта следующее решение. — Достал из кармана вторую бумажку. Неторопливо ее развернул. И уже не пролаял текст, а чуть ли не пропел его: новообращенный, который в церкви распевает особенно задушевно. Хвала тебе, великий Боже. — Новое время, — провозгласил фон Нойсер, — требует новых знаменосцев. Людей, которые в состоянии ясно осознавать изменившиеся принципы нашего государства. Которые способны подняться на духовный уровень нации. Которые готовы признать мировоззренческие формы нового времени.
Для усиления напряжения он сделал паузу, какую любят держать провинциальные актеры из плохоньких театров, заглянул в свою бумажку, как будто эту единственную фразу, ту фразу, ради которой он и устроил весь этот театр, он не знал наизусть, и испортил весь эффект тем, что не смог сдержать ухмылку.
— Все евреи, — сказал он затем, — покидают павильон сию же минуту.
Покидают павильон.
Бывает тишина, которая на самом деле не лишена звуков. Такого рода тишину можно услышать после заключительной сцены театрального спектакля, когда весь зрительный зал на мгновение затаил дыхание перед тем, как взорваться аплодисментами или криками „Бу-у-у“; или на концерте, когда дирижер после завершающего звука не сразу опускает палочку, чтобы дать музыке отзвучать без помех. Такая пауза, в которой уже ворочается то, что грянет после нее.
Фон Нойсер все еще стоял на своем стульчике. Все еще держал в руках бумажку. В танцевальном зале было тихо. Никто не шелохнулся. В настенных зеркалах видишь людей отраженными вдвое и втрое. Никто не сказал ни слова. Только можно было почувствовать глубокий вдох, как вдыхает море, рассказывал мне рыбак в Шевенинге, перед тем как обрушить на корабль метровые волны.
Потом разразился шум.
— Позор! — крикнул один голос. Не сильный голос, не актера, который приучен делать себя слышным. Голос одного из статистов, которые ведь все были гражданские люди, все были еще в смокинге или в вечернем платье, как того требовала эта сцена. — Позор! — крикнул голос, и он был уже не один, их было уже несколько, много, вся массовка, и техники тоже примкнули, осветители и звукотехники, а потом и актеры.
Все.
— Позор! — кричали они и плевались: — Тьфу! — И: — УФА должно быть стыдно!
Фон Нойсер не мог этого понять. Он привык к покорному поведению — поставщики приучили его в надежде на заказы; он считал само собой разумеющимся, что правота всегда признавалась за ним. И из сотрудников вряд ли кто когда возражал ему, ведь от его веского слова зависели гонорары и оклады. Он был полубог, внушающий благоговение заместитель истинных богов с начальственного этажа. А тут вдруг со всех сторон звучит протест.
Он хотел добиться тишины пантомимически, он думал, что сможет сделать это простой отмашкой. Хотел приглушить ропот жестом, который выглядел так, будто пианист ударяет по клавишам десятью растопыренными пальцами. Только клавиш тут не было, как не было и многозвучного, все перекрывающего рояля. Его жест ушел в пустоту — смехотворным, беспомощным подергиваньем.
Он попытался добиться тишины словами, выкрикивал что-то — возможно, „Тихо!“ — но его голос был слишком слаб, не мог пробиться сквозь шум. Только видно было, как рот открывается и снова захлопывается: рыба, выброшенная на берег, оказавшаяся вне родной стихии.
Он все еще стоял на стуле, но теперь уже не выглядел как народный трибун на подиуме, а казался — хотя в его позе ничего не изменилось — смешным персонажем фарса, запрыгнувшим на стол, спасаясь от мыши. В его штанинах — я до сих пор это вижу — под коленями прорисовались голенища тех жалких сапог. Видимо, в честь события дня — он отрыл их где-то в костюмерной.
— Господин рейхсминистр д-р Геббельс, — приступил он еще раз, но рабочий с микрофонным „журавлем“, тот самый, что по невнимательности испортил мне перед этим кадр, опустил свой „журавль“ совсем низко, размахнулся им изо всей силы слева направо, ударил фон Нойсера по голенищам сапог и смел его со стула. Убрал.
Фон Нойсер упал на спину и остался лежать. Он не повредился, ничего не сломал и мог бы без проблем самостоятельно встать на ноги. Но он ждал, что кто-нибудь придет ему на помощь, переметнется на его сторону. Только не было никого, кто бы поддержал его, ни одного человека.
Лишь Магда Шнайдер направилась к нему, но не для того, чтобы помочь. Она остановилась над ним, презрительно глядя сверху вниз, и ждала — она и в этот момент умела быть эффектной, — когда все к ней обернутся и обратятся в слух.
— Господин фон Нойсер, — сказала она. — Вы хотите, чтобы все евреи покинули павильон. Может быть, у вас даже хватит власти добиться исполнения этого распоряжения. Но вы должны знать одно: если вы сейчас прогоните нашего режиссера, то впредь можете снимать свои дерьмовые фильмы сами, господин фон Нойсер. Можете сами быть и режиссером, и исполнителем главных ролей, да и оператором тоже. Потому что если Курт Геррон уйдет, я хочу, чтоб вы знали: уйдем и мы все. Верно?
Со всех сторон закричали „Да! Да!“ и „Ура Геррону!“. Внезапно около меня очутились несколько техников, крепких парней, они подняли меня к себе на плечи, я сидел как на троне, а фон Нойсер корячился передо мной, поднимаясь с пола. На какое-то мгновение казалось, будто он ползает перед нами на коленях.
Потом он отвернулся, не в силах смотреть в глаза тем людям, что объединились против него, и пошел прочь, через весь Зеркальный зал, к выходу. Ссутулившись. Там, где он проходил, люди расступались перед ним, но не из вежливости, а словно сторонясь заразного больного.
Когда двери за ним закрылись, разразилось ликование, чудесное ликование, которое не хотело кончаться. Но когда шум все же смолк наконец, весь павильон — актеры, и техники, и статисты — с ожиданием смотрел на меня. Они хотели услышать речь.
И я нашел самые верные слова.
— Давайте продолжим работу, — сказал я. — Нам надо снимать фильм.
Но было не так.
Было так.
Фон Нойсер не отвел от меня взгляда. Был совершенно спокоен. Ждал реакции, ответ на которую у него уже был заготовлен. Выглядел при этом отнюдь не торжествующим, а едва ли не скучающим. Меня для него больше не существовало. Я был ему больше не нужен и потому не представлял для него интереса. Он скрестил руки на груди и вскинул подбородок вверх — жестом Муссолини, подумал я еще, — который ему совсем не подходил. Его стул — церковная кафедра, с которой он возвестил новое евангелие.
Всем евреям покинуть павильон.
Однажды, это было еще во времена немного кино, мы с Лорре обдумывали один проект, историю человека, который умер и сам этого не заметил. Он как ходил, так и ходит, пытается заговорить с людьми, но те его больше не воспринимают, смотрят сквозь него, они очень быстро нашли ему замену, за его столом в конторе уже сидит другой, и его жена утешилась: он видит, как она целует его лучшего друга, но ничего не может предпринять, ведь он же мертв, и все это знают. Только он нет. Он умер и не заметил этого.