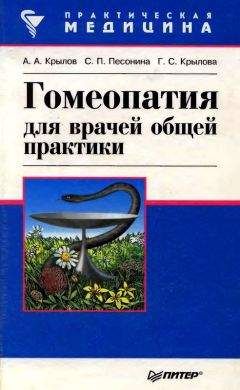Андрей Волос - Предатель
— Все равно слишком коряво! Да вот хотя бы рассуждение о времени чего стоит: «В то время… влачатся часы!..» Как будто часы — не время! А дальше:
Живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья! —
Тут уж не только от Пушкина далеко, но даже и от русского языка далеко! Конечно, автор пытается с помощью инверсии навести тень на плетень… неопытный читатель может проглотить. Но если прямо сказать, так и повторять не захочешь: во мне горят живей угрызения сердечной змеи! Бр-р-р! Угрызения — горят! Горят — живей! Разве это — Пушкин?!
Шегаев усмехался, задумчиво посасывая трубку.
— Да ты просто глух, глух на оба уха! — крикнул Бронников. — Как ты можешь такое говорить!
— И дальше в том же духе!.. А финал и вовсе удивителен! Настоящий Пушкин подобным образом никогда в жизни бы не выразился.
Артем поймал взгляд Лизки — она была в совершенном упоении от разворачивающейся перед глазами ссоры. Алексей, разинув рот в припадке оцепенелого внимания, переводил ошеломленный взгляд с раскрасневшегося папы на Юрца, воинственно топырящего бороду, — и обратно.
— Что за глупость!
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю!!!
Разве это не убедительно?! Разве это не музыка?!
— Не убедительно, а приблизительно! И Лев Николаевич это чувствовал! А иначе с чего бы ему предлагать поправку: не «печальных», а «постыдных»! — гремел в ответ Юрец, так стуча по столу кулаком, что тарелки прыгали (Наталья Владимировна едва успела подхватить начавшую валиться вазу с алыми коробочками физалиса). — Поправка дурацкая, конечно, старичок в стихах не петрил! Да и не понимал, что ничего постыдного автор на чужой суд выносить не будет! Довольно и того, что печальное вынес!.. Однако нутром чуял: что-то здесь не так! А что он чуял? Что не так?
— Вот именно: что не так? — блестя глазами, возбужденно вскрикнула Лизка. — Уж будьте добры, господин Белинский, разъясните! — И, прижав кулак ко рту, сдавленно расхохоталась — должно быть, от своей отчаянной смелости — и спряталась за плечо Артема.
— То не так, что Александр Сергеевич во всем другом не устает показывать себя гением точности! Гением — понимаете вы все??! Точ-нос-ти! А здесь что?! А здесь чувство точности ему изменяет самым предательским образом!
— Да в чем же изменяет?! — Бронников воздел руки к люстре и потряс ими, как будто именно от осветительного прибора ожидал ответа на свое отчаянное вопрошение. — В чем?!
— Он о чем толкует? — как ему хотелось бы переменить прошлое! Или, в крайнем случае, забыть. Избавиться от него. А с ним вместе — от того отвращения, которое оно вызывает. Чтобы впредь не трепетать, не проклинать, горьких слез не лить. Хотел бы? — еще как! И вдруг вопреки своим желаниям заканчивает: «не смываю». Почему не смывает? Ради чего? Не говорит. Просто — не смывает. Хочет смыть — а не смывает! Почему бы не смыть, коли так хочет?
— Не может смыть, — Кира пожала плечами. — Прошлого не смоешь.
— Вот! Ты сама сказала, Кирочка! Ты права: не смоешь! Нельзя смыть! Не получается смыть! Именно так! Но если так, автор и написать должен был: не могу смыть, к сожалению! Правду должен был написать, как всегда прежде делал. Точную и определенную правду: не получается смыть! Нет способов смыть прошлое! Прошлое — несмываемо! Верно?
— Он совсем другое имеет в виду!
— Не знаю, Гера, что другое! Ты скажи: прошлое можно смыть? Нельзя! Он и должен был сказать: нельзя смыть, несмываемо! А сказал совершенно другое, что Толстой потом так расхваливал! Почему?
— Почему? — пискнула Лизка.
— По той самой причине, по какой бездарные поэты то и дело говорят всякие нелепицы: из-за рифмы. Бездарные — почти всегда, а он — однажды. Однажды — но сказал… «Но проклятая рифма опять и опять заставляет сказать не то!» — или как там? Рифма иному так руки выкрутит, что по-козлиному заблеет! Чтобы с рифмой сладить — воистину нужно быть гением! А в этом стишке Александр Сергеевич отнесся к делу спустя рукава… без огонька, без гениальности!.. и оплошал, не сладил. И вышла глупость!
— Да ты глупец, Юрец!.. извини, что в рифму… Просто дурак!
— Гера! — возмутилась Кира. — Ты что?! Возьми себя в руки!
— Шучу, шучу… Нет, ну ты слышишь, что он?! Он же все перепутал! Он самого главного не понимает!
— Чего главного я не понимаю?!
— Какой смысл тебе объяснять?!
Бронников яростно махнул рукой и отвернулся.
— Прекрасно! — обрадовался Юрец. — Отлично! Может, мне вообще уйти? Нет, ты скажи! Мне только пальто накинуть!
— Ладно вам, Юра, не булыганьтесь, — предостерег Игорь Иванович. — Гера прав, тут в другом дело: дело не в том, что автор прошлого смыть не может.
— А в чем же?
— Он совесть свою больную не хочет смывать. Совесть болит — а он не хочет избавляться от боли. Потому что совесть и должна болеть: должна напоминать, как легко он оступался в прошлом!.. — Игорь Иванович скривился, будто сказал лишнего. Однако затем провел сгибом указательного пальца по щетине усов и продолжил негромко и размеренно, словно сводя весь пыл спора к чему-то само собой разумеющемуся: — Разве кто-нибудь из нас может сказать, что он чист? Разве найдется человек, не совершавший в жизни ничего глупого, трусливого, позорного? Нет таких! Все человеки отягчены! Только одному — как с гуся вода, сделал, плюнул, забыл — и дело с концом. А другой знает твердо: нельзя прощать себе прошлого!..
Мгновение все молчали.
— Фу-у-у! — Бронников шумно выдохнул. — Слава богу! Игорь Иванович, спасибо, поддержали! Я от неожиданности все слова растерял! В нем же ничего святого нет, ничего! Я давеча про дырокол говорил… нет, Юрец! Ты просто мясорубка фабричная, а не дырокол!
— Разливайте, разливайте! — потребовала Кира. — Сцепились как собаки! В знак примирения за женщин немедленно говорите слова! За прекрасных дам!..
Артем потянулся к Лизке, чтобы поцеловать… — и закрутился Новый год, завертелся.
Без четверти стали меняться подарками (Кира захохотала, прижав к щекам новые чешские перчатки), без десяти убрали звук (в телевизоре уже маячило рыбье лицо Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Владимировича Андропова), потом снова прибавили — и с первым ударом курантов дали пробкой в потолок, а с последним, смеясь и, успев переобниматься и пожелать что положено, прозвенели бокалами!..
* * *Открыл глаза, встряхнулся… где едем?
Пора собираться.
Поднялся с нагретого сиденья и пошел к передним дверям.
Пассажиров, кроме него, было только два. Оба крепко спали, завалившись в углы, и на одного Артем походя нахлобучил готовую свалиться шапку.
— Станция метро «Октябрьская»! — прохрипел динамик.
Зашипели двери, раскрываясь.
Пробежался, инспектируя табачные ларьки по обе стороны площади; убедившись, что все, как один, закрыты, а чувство утреннего раздражения стало обретать формы смиренной безысходности, поспешил в обратную сторону, к больнице.
Опаздывать считалось западло. Да и не в том даже дело, а просто он сам не любил опаздывать: если надо к восьми, то какого хрена приходить в пять минут девятого? Из-за этого однажды сцепился с одним, уж теперь не вспомнить как зовут. Сказал по-хорошему, а тот залупнулся: вроде как он сам знает, что к чему. Вроде есть вещи, которые ему можно говорить, а есть — которые нельзя. Ну и схлопотал по роже пару раз… в запале ничего, а теперь как-то совестно.
Артем миновал ограду Бакулевского института и еще метров семьдесят больничного забора, достиг ворот Главного корпуса, свернул — и вскинул взгляд.
Монументальный, мощный, серьезный, строгий, значительный — а вместе с тем и легкий, воздушный, зримо плывущий в морозном воздухе восьмиколонный белокаменный портик! И круглый купол церкви Марии Магдалины, венчающий здание!
Вот здорово, если бы и колокол можно было оттуда услышать!
Он шагал себе дальше, секунда удовольствия таяла и забывалась, но если бы кто-нибудь схватил сейчас за руку и крикнул: «Стой! Ты чего лыбишься?!» — он бы очертил ладонью то, что с такой непреложностью, с таким самопониманием своей величественности бросилось в глаза. Он бы так и сказал: «Видишь, как построено? — я все про это знаю!..»
А может, наоборот, удивился вопросу — что? где? разве?.. Потому что, если честно, он и внимания на ту секунду не обратил. Душу мимолетно омыло красотой, а сознание — да ну, его и серьезными-то вещами не сразу всколыхнешь…
Церковь есть церковь, и он перекрестился, как всегда это делал — едва намеченным движением правой руки. Никто со стороны даже и не подумал бы, что он перекрестился — пальцы у человека дрогнули, вот и все. Тем не менее, его вторая правая рука — призрачная, никому не видная — поднялась и размашисто осенила его крестным знамением. Прилюдно он не крестился. Ни дома (с тех пор как бабушка Сима умерла, принято не было), ни в иных местах. Впрочем, мало ли что у кого принято; вовсе не смущение его тормозило, не боязнь, что кто-нибудь обратит внимание: «Ишь, — скажет, — Артем-то у нас какой богомолец, ха-ха-ха!» Просто как-то не привилось, что ли… да и в Бога он не настолько верил, чтобы то и дело руками махать… А со стороны глянуть, так и впрямь смешно: здоровый мужик, рослый, костистый, сутулый, чернявый, жилистый, челюсть маленько лошадиная — такому хоть лопатой орудовать, хоть зубилом, хоть с кистенем на большую дорогу, — а он крестится и бормочет.