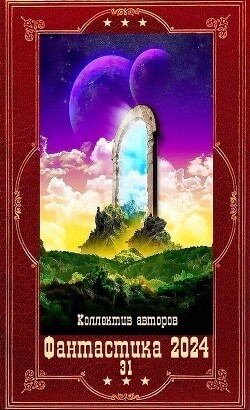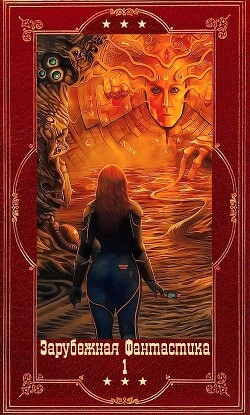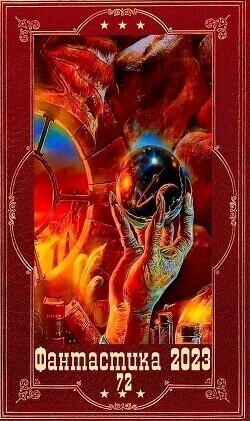Завет воды - Вергезе Абрахам
Каждое лицо, возникающее над его кроватью, — Онорин, Рави, Мутху и стажера, чью заячью губу он восстановил в предыдущей жизни, — пронзает его стыдом. Ему стыдно, что он разочаровал их всех. Стыдно, потому что теперь он Дигби — прелюбодей, Дигби — убийца. Стыд преследует его при пробуждении. Ему хочется заползти в пещеру, куда не проникает солнечный свет, где он мог бы укрыться от взглядов других людей, особенно своих великодушных друзей. Если бы можно было отказаться от человеческого облика и стать дождевым червем, каковым только он и заслуживает быть. А друзья в отчаянии из-за его психического состояния.
На шестой день после пожара Дигби встал еще затемно. Морщась от боли, снял повязки. При свете ночника обследовал свои раны. Больше всего пугала тыльная сторона правой кисти: от запястья до суставов пальцев обнажена вся анатомия, видны блестящие ленты сухожилий, обрамленные почерневшей плотью. Если бы не темный струп на поверхности, выглядело бы в точности как иллюстрация в «Анатомии Грэя». Боли не чувствуется, и, значит, это ожог третьей степени — самый глубокий, затронувший кожные нервы. В пожаре он, должно быть, рефлекторно сжал руку в кулак, обнажая тыльную сторону и защищая ладонь и пальцы. На левой обожжены и ладонная, и дорсальная поверхности, кожа цвета пожарной машины, сочащаяся и покрытая волдырями, а пальцы раздуты как сосиски, вдвое больше обычного. Это, вероятно, ожоги первой-второй степени, нервы не затронуты, и поэтому боль мучительная. Здесь кожа со временем регенерирует, пускай даже останутся шрамы. О правой руке такого сказать нельзя.
Он обнажен. Спину жжет. Там тоже, должно быть, ожоги. Дигби, прихрамывая, подошел к зеркалу, стараясь не заорать от боли, комната вращалась вокруг него. Кто это опаленное существо без ресниц, бровей, без волос, с распухшими, как у побитого боксера, похожими на цветную капусту ушами? На него смотрит получеловек, полустегозавр с лысыми глазами. И говорит: Ты уж наполовину поджарился, может, и прикончишь себя-то вконец-то. Нету тебе никакого оправдания, ее кровь на твоих руках. И никакой к тебе жалости, дурак ты и посмешище. У людей сердца будут кровью обливаться за несчастного овдовевшего Клода, а не за тебя. Убирайся! Беги!
Небо светлеет. В углу на матрасе кто-то лежит.
— Мутху, — шепчет Дигби, и Мутху мгновенно подскакивает. — Мутху, пожалуйста, умоляю тебя. Я не могу здесь оставаться.
Босиком, завернувшись в простыню вместо повязок, он выскользнул из больницы вместе с Мутху. Поездка на рикше вызывала дикую боль. В приюте для путешественников возле Центрального вокзала парень за стойкой изумленно таращился на гостя, похожего на привидение, да вдобавок, кажется, белого. Мутху поспешил по поручениям Дигби.
К вечеру Дигби, в свежих повязках, свободной рубахе и мунду, уже вытягивается на полке в багажном вагоне «Шоранур-экспресса». В этом рейсе Оуэн Татлберри не машинист паровоза, а сопровождающий, скрывающий свое беспокойство. Заплаканный Мутху остался в одиночестве на платформе. Оуэн говорит:
— Если жена узнает, что я ей соврал, ох и закатит она мне джаа́п [142] прямо по физиономии. Она наверняка думает, что у меня завелась подружка на стороне.
Оуэн разочарован: Клод Арно, убивший Джеба, избежит наказания, потому что драгоценный главный свидетель путался с женой этого мясника.
На рассвете поезд встретили Франц и Лена Майлин и Кромвель, их водитель, приехавшие на автомобиле из «Аль-Зух». Они уложили одурманенного бесчувственного беглеца на заднее сиденье, поставили рядом на пол его чемодан с бинтами, мазями и опиумом. Он стонет, но не произносит ни одного внятного слова за всю трехчасовую поездку по горному серпантину. В «Аль-Зух» есть отдельный гостевой коттедж. Дигби уложили в постель, и он проспал весь день.
Ближе к вечеру Лена с Францем стучатся в дверь. Дигби открывает, голова и тело его укутаны простыней, а крошечные зрачки уставились на человека в шортах-хаки, рубахе и шлепанцах, стоящего позади супругов.
— Это Кромвель, — говорит Лена. — Он будет помогать вам со всем, что вам…
— Я справлюсь! — резко бросает Дигби. Осознав свою грубость, он печально опускает голову. — Простите.
Он обязан все объяснить им. Стыд, откровенно сознается Дигби, гораздо больнее, чем ожоги. Ему пришлось бежать из Мадраса. Их гостеприимство — это подарок судьбы. Он умоляет никому не рассказывать, что он здесь.
— Когда-нибудь я смогу отблагодарить вас. Мне нужны инструменты. Пинцеты — лучшие, что удастся найти. И хорошие ножницы. Спирт для дезинфекции. Виски для поднятия духа. Побольше вот таких бинтов. Вазелин. И бритвенные лезвия.
Высоко в горах, в отсутствие вокруг лиц, в которых отражается его стыд, Дигби в состоянии подумать. На правой руке уже сформировалась плотная черная корка. Если этот струп не удалить, он станет твердым, как камень, со временем отвалится, и тело заполнит дыру грануляционной тканью, превратив это место в толстый кожистый рубец, который навсегда закрепостит связки. Получив пинцет, Дигби немедленно начинает ковырять струп, используя при необходимости бритвенное лезвие — пока сухожилия и мышцы не станут чистыми. Омертвевшие нервы делают процесс безболезненным только до определенной степени, ткани по краям кровоточат, и боль довольно сильная.
Он двигает мебель, потому что должен делать хоть что-нибудь, если надеется восстановить функции правой руки. Пропускает очередную дозу опиума, чтобы оставаться в ясном сознании — левая рука должна повиноваться его приказам. Втиснув переднюю часть правого бедра между комодом и краем стола, Дигби оттягивает кожу — «донорский участок». Протерев спиртом, вырезает тонкий, как паутинка, кусок размером с кнопку. Кричит, когда бритвенное лезвие разрезает плоть. Боль острая, невыносимая. Он выпивает глоток виски. Пинцет подрагивает в пальцах, когда Дигби подцепляет пластину кожи, а затем укладывает ее на обнаженную поверхность тыльной стороны правой кисти, расправляя. В течение следующего часа хозяева слышат периодические вскрики, как будто медленно вращающееся пыточное колесо режет гостя при каждом обороте. Они окликают Дигби через закрытую дверь, тот отказывается от помощи. Еду для него оставляют снаружи за дверью, Кромвель караулит. Дигби надеется, что эти «отщипнутые» кожные трансплантаты, подобно скоплению мелких островков, укоренятся, разрастутся и заполнят собой пространство. Да уж, это совсем не банальная операция. Хирург не должен быть сам себе пациентом, и не следует заменять эфир стаканом виски.
На следующий день Дигби, пошатываясь, выходит из коттеджа. Кромвель тенью материализуется у него за спиной.
— Я должен гулять, — сообщает Дигби.
Каждый день он увеличивает расстояние своих прогулок, придерживаясь ровных тропинок через тенистые леса каучуковых деревьев; природа успокаивает Дигби. Он сторонится Франца и Лены, стесняясь разговаривать с ними после того первого откровенного признания. Кромвеля он терпит. С этим парнем у него нет общей истории, перед ним не в чем оправдываться. Кромвель деликатно руководит этими прогулками-дважды-в-день, всякий раз провожая Дигби в разные части поместья.
Через три недели после приезда Дигби Кромвель сообщает Лене:
— Доктор очень печально. Не двигаться.
Лена обнаруживает Дигби сидящим без рубахи на ступенях гостевого коттеджа. Выражение абсолютного отчаяния на его лице повергает ее в ужас. Он молча показывает правую руку: темная пятнистая лавовая яма. Лена не знает, что с этим делать, хотя сам хозяин руки, кажется, готов ее отрезать.
— Лена, — говорит он, — я ничего не добился. Связки по-прежнему не работают.
Не в силах справиться с собой, она тянется к нему утешить. Лена выбирает плечо, где кожа выглядит нормальной. Дигби вздрагивает, но не отодвигается.
— Ох, Лена, что стало с моей жизнью?
Она сидит рядом, тесно прижавшись, самим своим присутствием убеждая, что он не один. И наконец говорит: