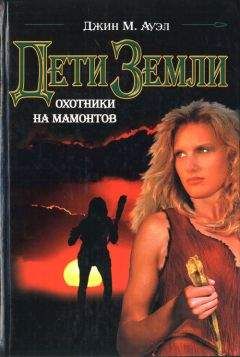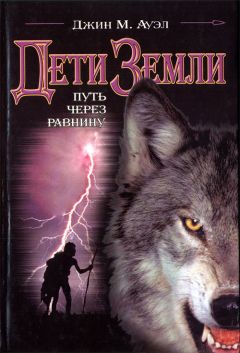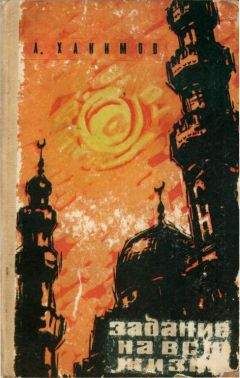Мурена - Гоби Валентина
Франсуа заходит в табачную лавку «Ле Кристоф». Ему нравится спокойный интерьер, шероховатая поверхность охряных стен, напоминающая крокодилью шкуру, чучела птиц, бра из искусственного хрусталя и напольная плитка из песчаника — у самой кассы, где народ толпится больше всего, она совсем истерлась. Франсуа спрашивает пачку «Голуаз», просит, чтобы ему поднесли огня, зажимает сигарету зубами, затягивается, прикрывая левый глаз от дыма и яркого солнца. Он проходит мимо бани Сен-Медар, винной лавки «Постийон Ромийа», продуктового магазина «Кур-дез-Ай» — в общем, он превосходно знает всю улицу. Он пробирается сквозь толпу субботним утром, ищет глазами знакомые места — понятные ему знаки, фасады, символы… На его шерстяном свитере мало-помалу скапливается сигаретный пепел. В воздухе пахнет хлебом и жареным луком. Отовсюду доносятся крики — объявляют цену на говядину и морковь; откуда-то доносится пение, людские голоса сливаются в неповторимую уличную какофонию. Франсуа останавливается, пытается различить среди голосов, криков, топота, велосипедных звонков, скрежета передвигаемых ящиков голос певца, его меланхолическую мелодию, теряет его, снова вслушивается, как некогда, лежа в больнице города V., вслушивался в скрипичную партию, выуживая ее из рева симфонического оркестра; он снова теряет и снова находит этот голос и улыбается; рядом вдруг раздается: «Эй, мсье, посторонитесь-ка!» Поет мужчина, поет на иностранном языке; Франсуа различает мягкие раскатистые фонемы. Он уже далеко от улицы Муфетар, а голос певца все еще волнует его; язык напоминает португальский, это заставляет Франсуа задуматься о своей миссии.
Он недалеко ушел от тех же проблем, что мучали Жоао. Ему страшно. Мария прямо сказала: Жоао превратился в развалину, uma ruina. И это очень расстроило, напугало Франсуа. Именно сейчас он выбежал из тени, избавился от ее, но Жоао сам по себе тень, мрак. Франсуа справился с желанием умереть и способен снова окунуться в этот мрак без страха быть поглощенным им навсегда. И тем не менее он испытывает неприятное ощущение, какое-то жжение в животе, нежелание вновь возвращаться к огню, после того как едва спасся от него — и все это вместо облегчения от того, что ему удалось выжить! Франсуа заходит в кондитерскую лавку и просит упаковать два пирожных со сливочным кремом, посыпанных шоколадной стружкой, которая тает на языке. Это любимый десерт Жоао. Однако при виде пирожных Франсуа испытывает желудочный спазм.
Неделей ранее он встретил Марию. Та, одетая во все черное, словно вдова, стояла у прилавка в магазине и разглаживала рулон кримплена. Ее иссохшая кожа выглядела серой, а слабая улыбка казалась нарисованной на лице. Она сказала, что уезжает, уезжает навсегда, вместе с детьми, возвращается в Португалию. Больше она не в силах выносить все это: «Посмотри на меня, видишь, я почти скелет. Что скажешь? Это все от печали. А дети? Они постоянно видят, как их отец пьет, орет, тоскует».
Она объяснила Франсуа, что хочет по ночам спать, а не плакать; держать дверь спальни открытой, а не запираться на все засовы… Ее тихий голос был исполнен такой решимости, что Франсуа даже не попытался отговорить ее.
— Я приняла все, я не бросила его из-за его atrofiado, из-за его беды. Я старалась как могла, ты же знаешь! И мыла, и кормила, и все, все, все!
— Знаю…
— А ему плевать на это. И с каждым днем все хуже и хуже.
Франсуа хотел бы взять ее руку в свою, призрачную. Он сказал, что Мария сделала все возможное, и почувствовал себя полным дураком. Она-то знала себя, знала свой предел и просто объявила о намерении уйти.
— Я не знаю, — добавила Мария, — смогу ли вернуться.
Франсуа спросил, почему она не хочет забрать Жоао с собой в Португалию.
— Понимаешь, — призналась Мария, — он запретил рассказывать своей семье там, в Португалии, о несчастном случае.
Так что Мария решила уйти, она должна была это сделать ради себя, ради детей. И, быть может, даже ради самого Жоао, ведь он слишком много значил для нее, он напоминал ей о тех временах, когда они были молоды, влюблены друг в друга, полны сил — energicos.
— Он потерял меня всю, ты понимаешь? Не жалей меня, — добавила Мария, — пожалей лучше Жоао. Вы вместе веселились, выпивали, смеялись, а теперь ты должен помочь ему. Каждое утро и вечер к нему приходит сиделка, которая готовит и ухаживает за ним, а вот все остальное — уже твое дело.
Это был приказ. Он согласился, он обещал ей. Мария оставила его вместо себя и уехала.
Жоао требует, чтобы от него отстали. Он орет, бьет кулаком по коробке с пирожными и кидает ее, как летающую тарелку фрисби, через всю комнату. В воздухе разлетаются мириады сверкающих блесток. То же самое происходит и с другими свертками и упаковками — с грушами, круассанами, чипсами, конфетами, лепешками. Дни напролет он сыплет ругательствами, оскорблениями, швыряет в стену стаканы: «Вот ведь гадство!» — кричит он. Напившись, разъезжает по комнате на коляске, и Франсуа всерьез опасается, как бы он не рухнул на пол — ведь поднимать такую тушу, да еще и без рук, задача непосильная. Иногда он сидит, уставившись на скатерть на столе, пока Франсуа читает ему газеты или рассказывает о событиях минувшего дня. Как заведенный, Жоао повторяет одно и то же: он даже позволил Марии спать с другими мужчинами… трахаться с другими мужиками. «Нет, ты слышишь меня?! Ты бы дошел до такого? Вот ведь шлюха! Esta puta!» Но Жоао не понимает, как нужно было любить жену, как нужно было поступить в его состоянии, что нужно было сделать, не отдавая ее в чужие объятия. Одна только мысль о чужих объятиях сводит его с ума. Жоао никогда не говорил, что ревнует, никогда не говорил, что хочет сделать ее свободной — а ведь Мария, наверное, поняла бы его, думает Франсуа, она бы поняла, что он болен, а не равнодушен, как притворялся. Именно так и гибнет любовь.
Жоао успокаивается. Он нормально ест, перестает бить посуду. Спрашивает, как поживают Сильвия, Ма, Робер… И вот Франсуа полагает, что настал удобный момент, чтобы снова напомнить ему о Содружестве.
— Тебе бы спортом заняться, — говорит он, пока Жоао сворачивает себе сигарету.
— Что, ты опять? Спорт? — кисло произносит Жоао, кладя руки на кисет с табаком. — Что ты пристал ко мне со своим спортом?
— Но ведь твое тело создано не только для секса, старик! Ты можешь заниматься чем-то другим!
— Спорт… — эхом отзывается Жоао.
От возмущения он роняет листок сигаретной бумаги.
— Ты что, не видел, как я выгляжу? К черту твой спорт! — кричит он. — Вообще, пошло оно все к черту!
Франсуа вспоминает больницу города V., а точнее, тот момент, когда его соседи по палате стали обсуждать спортивные события, победы и поражения «Седана» на футбольной арене, Тур-де-Шампань, достижения Васко, а он в это время наблюдал через окно, как на дерево неподалеку взбирается человек, чтобы снять с ветвей застрявшего там воздушного змея. Тома и Виктор поинтересовались его мнением насчет результатов соревнований, а он, совершенно убитый, все смотрел и смотрел на гибкое ловкое тело, которое шебуршилось в листве; его мучил тогда вопрос: как этих людей еще могут интересовать такие вещи, как счет футбольного матча или успех велогонщика, когда их собственные тела стали совершенно ненужными? Но он был слишком слаб, чтобы ругаться, иначе наорал бы на них. Жоао все еще не отрезанный ломоть. Франсуа подождет, он терпелив. Он готов постараться ради друга. От Жоао постоянно несет ромом или вином, и только жалость к инвалиду удерживает руководство предприятия, где он работает, от того, чтобы его не выкинуть на улицу. Жоао нужно новое увлечение вместо бутылки.
— Пойми, ты же убиваешь себя.
— Ну сдохну, и что с того?
— Послушай, я ведь тоже в свое время хотел сигануть с крыши. — Он мечтал об этом, лежа на больничной койке… — И спасла меня тогда Надин, моя сиделка. Прекрасная женщина! Я об этом никому не рассказывал, это была моя сокровенная тайна, мое убежище. Она помогала мне преодолеть гадкое чувство зависимости от собственного тела по возвращении в Париж. Боль и разочарование, когда я понял, что протез для меня бесполезен. Каждый раз ее образ вставал передо мной, спасал от безумства…