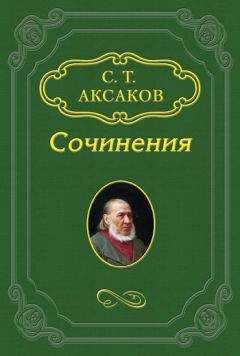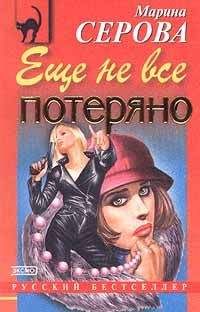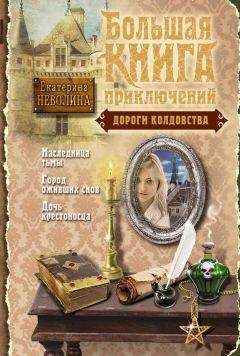Валентин Распутин - Дочь Ивана, мать Ивана
Надо было подниматься, от речки и от недалекой отсюда Ангары понесло прохладой, проносящиеся машины принялись бить по ушам музыкальным грохотом. Тамара Ивановна решила идти пешком. Куда ей торопиться? Сошла на дорогу, поворачивающую влево, и, не оглядываясь, не озираясь, ступая уверенно среди тяжелых грузовиков, кружа вместе с гремящей дорогой в частых поворотах, стала всходить в гору, на улицу Красноярскую.
У себя во дворе она опять присела — на бортик детского песочника напротив своего подъезда. И минут пять, не шевелясь, смотрела неотрывно на тускло светящееся узкое окно на втором этаже, вспомнив и тут же заставив себя забыть, как она искала в нем из кухни каждую тень в ту ночь, когда потерялась Светка. Потом нашлась… Но нашлась ли? Нет, не надо это вспоминать, ничего не надо. И неужели же правда, что долго, очень долго ее, Тамары Ивановны, здесь не было? Теперь вернулась… Но вернулась ли? Как можно оттуда вернуться после всего, что было? Все перепуталось, нигде ее сейчас нет.
К соседнему подъезду подкралась машина и окатила Тамару Ивановну ярким светом. Ну что же — вперед! Под капризный плач ребенка из машины она шагнула в темную дверь своего подъезда и, поднимаясь по лестнице, ворчливо повторяла: «Минутки не хватило, всего одной минутки…»
Ей открыл Демин. Он разинул рот и хлопал глазами, уставившись на нее как на привидение. Потом взревел по-медвежьи, сграбастал ее вместе с пожитками, не переставая реветь, внес в комнату и бухнул на ноги перед выскочившим Анатолием. Анатолий в полной потерянности неловко обнял ее и отпустил.
— Что это ты меня как племянницу какую… — сказала строго Тамара Ивановна, отбрасывая в сторону поклажу и освобождая руки. — А ну-ка еще раз!
В. Курбатов
ДИАГНОЗ
Послесловие
В самую мучительную, самую последнюю, гибельную минуту допроса ее истерзанной дочери, когда уж и голоса своего нет, Тамара Ивановна слышит, как в ней что-то отдельное наговаривает: «Ничего, ничего... Это ничего... Это к нам. Принимайте гостей... мы гостям завсегда рады... Мы ничего... Мы такие...»
Как это невыносимо угадано Распутиным! Он и в нас бьется, этот отдельный голос. Вроде бы и проклясть надо обезумевший, потерявший себя мир, где зло перешло всякие границы, а душа иронически кривится: да кого проклинать-то? Сами и приготовили место новому дню, как жестокому гостю. Не скажешь, что не ждали. Давно решетками на окнах и железными дверями загородились, на добровольную тюрьму себя обрекли. Значит, видели уже, что на улицу нельзя выходить, что там зло раскинулось на полсвета — его это вотчина.
Зачем же это именно ей, ее семье такое испытание? Жили честнее других, себя не роняли. Ведь и мы так же и это же закричим (господи, не дай никому в мире пережить то, что пережили герои повести!), А только «гости-то» уж поняли, что «мы — ничего, мы такие» и нас можно убивать на улицах, никто не кинется спасать, можно унижать «поштучно и оптом». Но пока не лично тебя, можно и отвернуться, отделаться вздохом — «Ничего...»
Вот и я когда-то, прочитав «Печальный детектив» и «Людочку» В. П. Астафьева и надорвавшись сердцем, все пытался защититься, что художник «перетемнил мир», что Господень мир милосерднее, что писатель только «не доглядел» уравновешивающего света. Вместо того чтобы биться вместе с художником, душу свою пустился оберегать, свет загораживать. А оно вон как обернулось. Теперь тогдашнее зло уж будто и не зло, а только увертюра к тому, что начнется и что напишет окровавленным сердцем Распутин. И я будто прямо себе в ответ на то давнее письмо Астафьеву о равновесии (словно Валентин Григорьевич за плечом стоял) прочитаю в повести: «Всегда казалось само собой разумеющимся, заложенным в основание человеческой жизни, что мир устроен равновесно, и сколько в нем страдания, столько и утешения. Сколько белого дня, столько и черной ночи. Вся жизненная дорога выстилается преодолением одного и достижением другого. Одни плачут тяжелыми, хлынувшими из потаенных недр слезами, другие забывчиво и счастливо смеются, выплескиваясь радужными волнами на недалекий берег. Да, впереди всегда маячил твердый берег, и в любом крушении всегда оставалась надежда взойти на него и спастись. Теперь этот спасительный берег куда-то пропал, уплыл, как мираж, отодвинулся в бесконечные дали, и люди теперь живут не ожиданием спасения, а ожиданием катастрофы. Исподволь, неслышным перетеканием, переместились горизонты восхода и заката солнца, и все, что подчинялось первичному ходу тепла и света, неуклюже и растерянно оборотилось противоположной стороной».
Словно и сам «первичный ход света» прервался. Да ведь так и есть — прервался. Вчитайтесь-ка в повесть-то. Хотя ее и один раз прочитать — много надо сил. После десятка страниц откладываешь и мечешься — места себе не находишь. Была бы река под боком, лес, так — к реке, небу, дереву, а так кинешься к окну, а там только что описанный мир. А каково было писателю месяц за месяцем держать в себе всю эту тоску насилия и опустошения? Но Распутин и раньше себя, как Виктор Петрович Астафьев, мало берег, поднимая самые ранящие проблемы, которые умом не возьмешь, — им все сердце отдай: и в «Последнем сроке», и в «Прощании с Матерой», и в «Пожаре». А тут и еще больнее. Тут уж пожар-то во всю землю. И опять, как всегда у него, — на земных, женских, слабых, всесильных плечах.
И все-таки, как ни тяжело, вслушайтесь. Теперь, когда сюжет отболел, когда Тамара Ивановна вышла на свободу крепче, чем была, и удержит себя и семью, когда и в нас перегорел ужас насилия, и можно стало немного распрямиться, теперь можно и в «публицистику» вслушаться. Я не о прямой публицистике говорю, хотя и ее, как часто у Распутина в последних вещах, много. Да и как не быть, когда мы все теперь политики и публицисты, и кого в герои ни выбирай, хоть деревенского из деревенских, он скоро сам заговорит на уличном политизированном языке. И не от наклонности к философствованию и празднословию, как еще несколько лет назад покойно и обстоятельно умствовали о политике мужики, а подлинно жизнь загнала, отравилась сама и отравила нас. Я говорю о публицистике внутренней, которая вошла в порядок мира, ушла из слова в обиход, в рутину повседневности.
Вот тут-то и увидишь, что сюжет сюжетом, а при жестокой тяжести своей он все-таки только частный случай общей беды, только режущая сердце концентрация того, что исподволь сошлось, что в «разбавленном виде» давно пересекло каждую русскую судьбу и от чего ни за какой теорией, ни за каким красноречием и самообманом не укроешься.
Богатые таких книг не читают. У них «даже солнце свое, отдельное от бедных, — на каких-то экзотических островах, отнятое и вывезенное из рая; у них народились фантастические вкусы: играть в футбол они летают на Северный полюс, для прогулок в космос нанимают в извозчики космонавтов, любовницам дарят виллы в миллионы долларов. А бедные между тем спорят, ходить или не ходить им на выборы, и, в сотый раз обманутые, все-таки идут и голосуют за тех, кто о них тут же забывает... Ни там, ни там нет согласия и внутри себя — у одних от непривычки к неправой роскоши, у других от непривычки к нищете. И никто не знает и знать не желает, удастся ли когда-нибудь притереться друг к другу и стать одним народом или никогда не удастся, и кому-то в конце концов придется уходить».