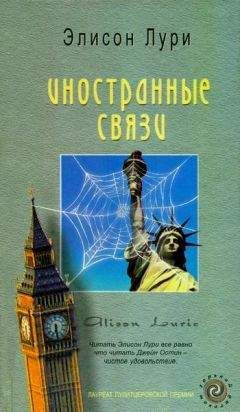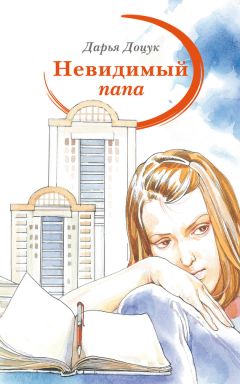Владимир Шаров - Старая девочка
Всё это могло показаться глупым паникерством, однако Ежов хорошо знал, как много людей ненавидят то, что они строят, знал он и что такое паника. Стоило власти хоть раз дать слабину, уступить — и ей не удержаться. Нет сомнения, что в любом другом случае Ежов положил бы на стол Кобы первое же ярославское донесение, но, помня их со Сталиным разговор о Вере, боялся, что крайним в этой истории обязательно представят его, Ежова. И всё равно он доложил бы Кобе, если бы не еще одно обстоятельство.
Дело в том, что уполномоченный НКВД несколько раз, на свой страх и риск, пытался арестовать Веру; он давно за Радостиной следил, знал каждый ее шаг, выяснил, куда она идет и как она это делает, по какому плану, так что прекрасно понимал, что действовать надо быстро, нельзя дать Вере уйти далеко — потом ее уже не возьмешь; но первый секретарь обкома партии Кузнецов всякий раз, причем в категорической форме, отказывался дать санкцию на арест Радостиной. Клейман буквально валялся у него в ногах, но ничего не добился. Более того, когда он сказал Кузнецову, что Вера идет назад по дневнику, это ее карта, без него она сразу и безнадежно запутается, потому что никто не помнит свою жизнь день за днем, час за часом, а без этого идти назад невозможно, Кузнецов — и тоже без объяснений — запретил Клейману изымать у Веры дневник.
Ясно было как белый день, что это настоящий саботаж, и Клейман в каждом донесении умолял Ежова доложить Сталину, что ярославский секретарь делает всё возможное, чтобы подкоп под советскую власть оказался успешным, но Ежов молчал. Кузнецов был знаком со Сталиным еще со времен их общей с Кобой туруханской ссылки, входил в число пяти ближайших его друзей, и Ежов понимал: Сталин ему Кузнецова не отдаст.
Так тянулось почти девять месяцев. Вера уходила всё дальше. И тут вдруг Клейману повезло. Буквально чудом он раскопал, почему ярославский секретарь так упорно потакает Вере. Оказалось, что есть две копии дневника. Вторая — та, по которой она, собственно, и идет назад, и первая, полная, спрятанная в сарае за поленницей дров. Различие невелико, всего несколько страниц, но эти страницы как раз посвящены ярославскому секретарю, который пятнадцать лет назад был безнадежно влюблен в Веру и теперь ждет, что она к нему вернется. Клейман был убежден, что вскоре после своего переезда в Ярославль Вера как-то сумела связаться с Кузнецовым, и они договорились, что он будет прикрывать ее отход. Вера же в свою очередь, чтобы, если дело вскроется, его не подставить, снимет со своего дневника копию, из которой все упоминания о Кузнецове будут изъяты.
Это был уже серьезный компромат, и Ежов решил, что для разговора со Сталиным его должно хватить. Но разговор не удался и, как потом понял Ежов, удаться не мог. Сталин сразу же начал на него кричать, что сам Ежов — саботажник и вредитель, коли мог почти год не докладывать о таком важном деле ни ему, ни партии. Еще хуже было другое. Назавтра, анализируя, что кричал Сталин, Ежов вдруг понял, что тот полностью в курсе Вериного дела. Ярославский секретарь, по-видимому, давно поставил его обо всем в известность. Свой разговор с Ежовым Сталин окончил тем, что поведение органов в этой истории будет обсуждено на ближайших заседаниях секретариата партии, и он не сомневается, что на этот раз серьезной чистки НКВД не избежать. Прямо, что песенка Ежова спета, Сталин не сказал, но Ежов видел, что висит на волоске.
Все-таки в Ежове было достаточно воли, чтобы не распуститься, и за неделю, что была, он подготовился к секретариату как нельзя более хорошо. Едва Сталин дал ему слово, он, совсем бегло рассказав о Вере, стал говорить товарищам по партии, что мир — вечное противостояние и вечная борьба сил добра и сил зла, красных и белых, и от этого никуда не уйдешь. Сталин хмыкнул и, выпустив из зубов трубку, похоже, хотел что-то заметить, но Ежов не обратил на это внимания и продолжал: «Сталин — добрый бог, бог мира, счастья и прогресса, а Вера — злой бог, который пытается обратить нас вспять, тем самым уничтожить всё, что советский человек сделал за двадцать лет после Великого Октября». Он был уверен, что Сталину его слова должны прийтись по вкусу, но то ли лесть была чересчур груба, то ли решение насчет него было уже принято, но Сталин даже не дал Ежову перейти к сути вопроса.
Всё так же попыхивая своей трубочкой, он поднялся, рукой остановил Ежова и со всей возможной иронией стал объяснять ему, что дуализм — добрый бог и злой бог, которые на равных правят миром, — это манихейская ересь, которая разрушила не одну империю, и что для него, Сталина, да и для всего советского народа она совершенно неприемлема. Он, Сталин, вообще-то несколько лет проучился в семинарии и хорошо знает, что Бог один, один-единственный, и Он всеблаг, а сатана — не более чем падший ангел, которому Он иногда попустительствует. А еще больше ему, сатане, попустительствуют грехи человека, и с этим пока ничего не поделаешь.
Тут Ежов сдуру снова открыл рот, но Сталин опять его остановил и говорит: «Что же касается дела Веры, о котором вам сейчас доложил товарищ Ежов и следственные материалы по которому всем неделю назад были розданы, то сдается мне, что, когда Радостина характеризует главу НКВД как сатану, а его подручных — как сатанинское племя, коему я непонятно почему попустительствую, она недалека от истины. Впрочем, — добавил он после паузы и совершенно спокойно, — мнения тут могут быть и другие». После этого нормально говорить Ежов, естественно, уже не мог, путался, сбивался, в итоге, что он хочет сказать, никто не понял. Говорить и вправду трудно, если ждешь, что через пять минут за тобой придут, посочувствовал ему Смирнов. Так или иначе, Сталин больше его не перебивал и не останавливал, а когда Ежов закончил, вежливо поблагодарил за интересное сообщение.
Дальше Сталин перешел к вопросу, который с недавних пор занимает его больше всего, — классовой борьбе и ее высшей форме, гражданской войне. Начал с того, что на самом деле гражданских войн в природе нет и никогда не было, в человеке есть запрет убивать своих, переступить его могут только отдельные сумасшедшие, убийцы, а никак не целый народ. Поэтому перед тем, что принято называть гражданской войной, мы всякий раз раскалываемся надвое, и каждая половина смотрит на другую как на чужой, враждебный народ, так и воюет с ним. Раскол единого народа — вещь, конечно, тоже плохая, но совсем не такая плохая, как когда свои убивают своих; во всяком случае, народной нравственности она вредит куда меньше.
Это был зачин, вслед за которым Сталин заговорил о переходе евреев через Красное море, сказал, что «исход» известен давно и так хорошо, как мало какое событие из жизни других народов. О нем писали тысячи богословов и философов, но по непонятной причине никто из них почти не уделил внимания самому Красному морю, которое по воле Господа сначала расступилось, чтобы пропустить народ израильский, а потом, когда он благополучно выбрался на берег Синая, в мгновение ока сомкнулось, погубив египетское войско до последнего человека. Между тем сказанное в «Исходе» о море — точнейшая метафора того, что происходит с каждым народом во время гражданской войны. И того, что сейчас происходит между ним — Сталиным — и Верой Радостиной.