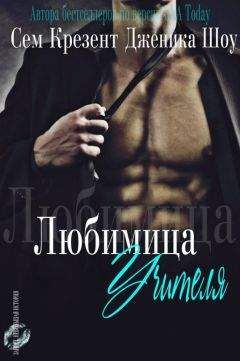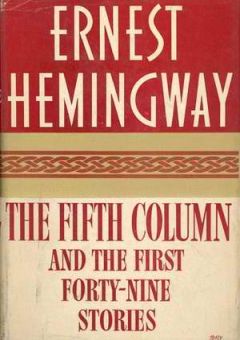Карин Альвтеген - Стыд
30
Май-Бритт сидела в кресле, не зажигая свет. Тени от предметов становились темнее и гуще — и наконец накрыли собой все пространство.
Шесть месяцев.
Поначалу она совсем ничего не чувствовала. Шесть месяцев — это просто отрезок времени. Двенадцать месяцев — это год, шесть — полгода, ничего особенного. Она пересчитала по пальцам. Двенадцатое октября. Двенадцатое октября плюс шесть месяцев. Успеет наступить апрель. Осень, зима и часть весны.
Двенадцатое октября.
В ее жизни эта дата наступала много раз, хоть Май-Бритт и не помнила, что именно происходило в эти дни. Они проходили незаметно, как и любые другие. И только сегодняшняя дата особенная. Это последнее двенадцатое октября. Май-Бритт просидела в кресле четыре часа — а значит, в последний день двенадцатого октября жить ей осталось на четыре часа меньше.
Ее пугало не то, что придется расстаться с жизнью. Бесполезное время текло мимо нее уже много лет. Жизнь уже давно не предлагала ей ничего интересного.
И все-таки — смерть.
Исчезнуть с лица земли, не оставив даже маленького следа, пусть небольшого отпечатка. Пока перед ней было будущее, она могла все изменить, стоило ей захотеть. Теперь ее время было ограничено, начался обратный отсчет, и каждая истекшая минута воспринималась как ощутимая потеря. Она даже представить себе не могла, что время может быть таким — то самое время, которое тянулось годами, которого всегда было так много, что она не знала, куда его девать. Время, которое медленно проходило мимо нее и растворялось в бессмысленности. Она исчезнет, не оставив ни следа.
Ее руки крепче сжали подлокотники кресла.
Независимо, хочет она того или нет, ей придется уйти в Великую Даль, в вечность, о которой никто ничего не знает.
А вдруг они правы? Вдруг все то, что они с таким усердием пытались вдолбить ей в голову, — вдруг все это правда? И ее ждет Страшный суд. Если это так, то милосердия ей ждать не стоит — в этом она не сомневалась. Ей не нужно заглядывать себе в душу, чтобы понять, какая чаша весов окажется тяжелее. А Он, наверное, будет стоять рядом и ждать, довольный тем, что скоро получит над ней полную власть. Свое право выбирать она уже использовала и конечно же заслужила все, что теперь последует.
Оснований жить нет, но разве умирать не страшнее? Разве не страшнее уйти в вечность, не зная, что это такое?
Безграничное одиночество.
В вечности.
Она столько всего не успела.
Квартира погрузилась в темноту, и тревога, охватившая Май-Бритт, становилась все сильнее. Росла с каждой минутой. Она должна попытаться выровнять чаши весов. Должна успеть.
Май-Бритт вдруг представила себе женщину, которая несколько часов назад, стоя посреди комнаты, объявила ей смертный приговор, а потом, бросив взгляд в сторону дорогих часов на тонком запястье, смущенно и торопливо удалилась. Внешне она была безупречна — но внутренне явно осознавала свою вину. Двенадцатого октября следующего года она не вспомнит ни Май-Бритт, ни сегодняшний день. Они растворятся в водовороте похожих друг на друга будней и других смертельно больных пациентов. А она будет спокойно продолжать жить на земле, отрабатывая собственную вину.
Она — да, а Май-Бритт — нет.
С этого момента Май-Бритт начала воспринимать каждую истекшую секунду как упущенный шанс.
Она встала. Открыла балконную дверь Сабе. Окна напротив горели — там еще недавно жил человек, который уже получил ответ на самый главный вопрос, который во все времена беспокоил человечество.
Май-Бритт снова вспомнила о Монике. О ее долге.
Две весомые жизни на одной чаше весов.
У Май-Бритт внезапно перехватило дыхание, ей стало страшно. К одиночеству она давно привыкла, но в одиночестве пережить все, что ей уготовано…
Отче наш, сущий на небесах. Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небес…
Она оглянулась и посмотрела в сторону платяного шкафа. Май-Бритт знала: она там, на верхней полке. За все эти годы она ей ни разу не пригодилась, но уголки обложки были истерты еще с тех времен, когда Май-Бритт не выпускала ее из рук. Но потом она повернулась к Нему спиной. Сказала, что проживет и без Него, попросила оставить ее в покое. Отвергла Его. И вдруг она все поняла. Представила с кристальной ясностью. Он просто выжидал. Знал, что она приползет на коленях, когда в песочных часах не останется ни песчинки. Когда она не сможет больше прятаться и вплотную подойдет к той черте, переступать которую боятся все и за которой никто не может больше притворяться. Всему когда-нибудь приходит конец. Когда-нибудь ты должен оставить все, к чему привык, и отдаться силе, страшнее которой для человека ничего и никогда не было.
Он знал, что она позовет Его, знал, что она упадет на колени и будет просить прощения, благословения, будет молить о Его милости.
Он оказался прав.
Он выиграл, а она проиграла.
Теперь она обнажена перед Ним, она покорилась.
Поражение было сокрушительным.
Она закрыла глаза и почувствовала, что краснеет. Подошла к шкафу и открыла дверцу. Начала искать на полке, стопка простыней, забытые скатерти и шторы — и рука нащупала наконец хорошо знакомую форму. Она застыла в нерешительности, унижение жгло как огонь, если она признается, что ошибалась, это будет значить, что Он все время был прав. От этого ее вина становилась еще больше. Тем самым она подтверждала, что Он вправе наказать ее.
Она взяла в руки Библию. Погладила истертый переплет. Между страниц что-то лежало, она потянула за край, не подумав — а когда поняла, что это, было уже поздно. Две фотографии. Она медленно вернулась к креслу, села. Закрыла глаза, но потом снова открыла их — и посмотрела на влюбленную пару. Прекрасный весенний день. Она стройная, на ней белое платье, Йоран в черном костюме. Фата, которую она так придирчиво выбирала. Переплетенные руки. Уверенность. Ни толики сомнения. На заднем плане Ванья, она за них очень рада. Знакомая улыбка, блеск в глазах, ее Ванья, которая всегда была рядом. Всегда желала ей добра. А Май-Бритт солгала ей, предала ее, осудила и вычеркнула.
Как тяжела эта чаша.
Она бросила фотографию на пол и посмотрела на вторую. У нее перехватило дыхание, когда она встретила пустой детский взгляд. Девочка сидела на одеяле, расстеленном на полу в кухне их дома. На ней было красное платьице. Маленькие белые туфельки, подарок родителей Йорана.
Она почувствовала, что по лицу текут слезы. Память вернула ощущение крошечного тельца, которое она поднимает из кроватки и держит в объятиях, вернула детский запах. Две ручки тянутся к ней в безграничном доверии — но она не готова принять их. Да и как она могла, ее никто никогда этому не учил. Горе, которое все это время она не допускала в свою жизнь, стремительно заполняло ее душу, отчаяние душило. Она уронила фотографию и, сжав руки, подняла их к потолку: