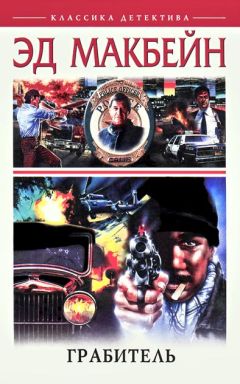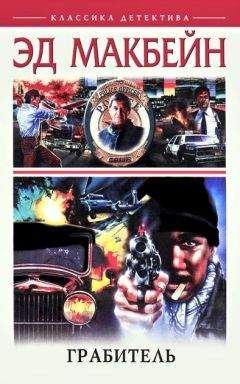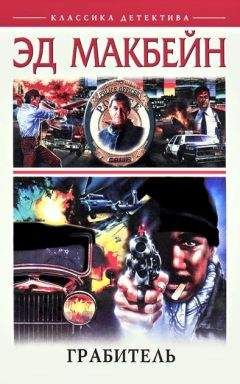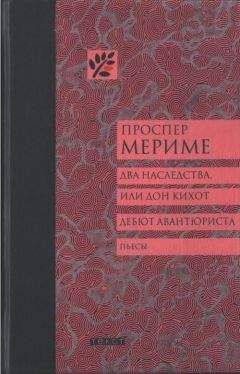Андрей Осипович-Новодворский - Эпизод из жизни ни павы, ни вороны
— Ха-ха! Вот так стихи!.. — засмеялась Катя.
— Не говори так! — с каким-то ужасом остановила ее Анна Павловна. — Не выражайся о нем дурно!
Девушка бросила на нее пытливый взгляд и через минуту спросила:
— Он мой отец?…
И с таким ледяным спокойствием спросила, что Анну Павловну как громом поразило.
— Катенька! Дитя мое!
— Рассказывай! — сказала та сухо.
Она была в таком положении… Он должен был жениться; но родители воспротивились. В это время явились жандармы. Обошлось благополучно; никого не взяли. Но старик еще сумрачнее стал и через три дня объявил ей, что она должна переехать в соседнее местечко; там ей квартира приготовлена… Ее изгоняли, как русскую, как бедную, темного происхождения девушку, осмелившуюся полюбить богатого и знатного панича. Генрик был в отсутствии. Скоро разнесся слух, что он пошел в повстанье. Относительно ее он обнаружил большое сыновнее почтение. Он не протестовал и даже не задал себе труда заглянуть к ней. Но она всё ему простила. Могла ли она сидеть на месте, когда он подвергался опасности…
— Какая сентиментальность! Ты лучше это пропусти! — прервала Катя недовольным тоном.
— Может быть, ты и права, друг мой… После бегства сына за границу старик смиловался над твоей бедной матерью и выдал меня замуж… Нашли пожилого спившегося чиновника и купили его за десять тысяч…
Дальше нечего было рассказывать.
Катя ничего не сказала, крепко поцеловала мать и отошла молча. Два дня задумчивая, серьезная ходила, день где-то пропадала, потом вернулась и сама начала:
— Ты это брось… о чем мы тогда говорили. Скоро ничего этого не будет: ни глупых отношений и привычек, ни глупых страданий… Все люди равны. Нет ни законных и незаконных, ни знатных и незнатных, а есть богатые и бедные… Ну, потом еще честные и подлые. Но скоро все честными будут, потому что это выгодно. Это поймут. И себе, и другим выгодно…
— Ох, твоими бы устами да мед пить, дитятко! — вздохнула Анна Павловна. — Мечтательница ты! — заключила она про себя.
Жар свалил. Солнце склонилось к западу. Длинные тени легли от домов. Скоро зазвонили к вечерне в костел: Катя всё не возвращалась. Анна Павловна удивилась, что день прошел так скоро, и вспомнила, что с самого утра ничего не ела. Но готовить было уж поздно. Она встала, тихо прошлась по горнице, потом вдруг подошла к иконе, бросилась на колени и начала жарко молиться…
Евгений Нилыч возвращался домой с головой, наполненной Псевдонимовым или Псевдомоновым, то есть в крайне неприятном настроении. Противный хлыщ самого заурядного свойства! В этом не могло быть никакого сомнения. Тоненький, ноги как палки, жакетик этакий с кончиком платка из бокового кармана, голубенький галстук с золотой булавкой, тросточка и пенсне на остреньком носу… «Вы, Катерина Ивановна, прекрасны, как роза… А я в Бога не верую, потому что я вольтерьянец»… А, мазурик! Так ты в Бога не веруешь?! Господи! может ли быть большее наслаждение, как взять этакого Псевдонимова или Псевдомонова за шиворот, при ней, поднять на воздух, чтоб он скорчился, сжался весь, как червяк, как пиявка, как я не знаю кто, и своим (то есть не своим) гнусливым, тоненьким голоском пропищал: «Виноват! Не буду! не бу…» И такой, с позволения сказать, сопляк осмеливается супружеское ложе… Конечно, он оскверняет супружеское ложе! О, его только пусти, только волю дай!.. Да он не только это: он всяким бунтам и беспорядкам рад… Погоди же! Хорошо посмотреть на такого молодчика, на сосулечку этакую, когда он попадет в руки правосудия и, бледный, дрожащий, тревожно ждет бубнового туза на спину! но нет, этого мало. Еще лучше вывести этого попочку на площадь, в праздничек: «Ребята! ведро водки!.. Валяй его!..» Ха-ха! Потом — статью в газету: «Сего числа… мерзавец…» Нет, это некрасиво. Лучше такую презрительную механику подпустить: «Один молодой человек… противного, богомерзкого вида»… Да, именно так хорошо. «Когда его отвратительное тело везли за город на съедение собакам»…
— Дядинька! Дай планицка!
Евгений Нилыч и не заметил, как очутился среди своего чистенького дворика, где ездил верхом на палочке черномазый пузан, лет четырех, очень на него похожий.
— Я тебе задам пряничка! — крикнул на него «дядинька» и направился к калитке прекрасного палисадника с кустами сирени, акаций и клумбами цветов. Сюда выходила галерея дома, одного из лучших в городе, крытого не соломой, а дранью. Стеклянная дверь вела в просторное зальце, с некрашеным полом, голыми стенами, украшенными несколькими олеографиями, обеденным столом посередине и гнутыми венскими стульями вокруг. У стола хлопотала колоссальная дама, лет сорока, в малороссийской рубашке, голубой юбке и в черном шелковом платочке на голове — для благородства. Это экономка, Марфа. Когда Евгений Нилыч бывает в хорошем настроении духа, то часто подшучивает над нею: «Марфа, Марфа, печешися»…
Марфа встретила его ревнивыми упреками на прелестном малороссийском диалекте, которые, в переводе на русский, будут иметь такой вид:
— Куда это тебя нелегкая так долго носила?
Она бросила тарелку и подбоченилась с необыкновенно воинственным видом, от которого нельзя было ожидать ничего хорошего. Но Евгений Нилыч был так сердит, что забыл всякую предосторожность, и опрометчиво спросил:
— А тебе какое дело?
— Что-о? Ах ты, мозгляк этакой! Да я тебе такое дело покажу, что ты у меня пить попросишь! Слышал?
— Ну, ну, Марфинька, — спохватился он. — ты не тово… У меня ведь дела.
— Знаю я твои дела! к этой дохлятине, прости Господи, ходил! Доходишься ты у меня! Ой, доходишься!
— Марфинька! — политично переменил он разговор. — У меня сегодня гости будут, так ты, голубонька, уж там распорядись: водочки, закуски…
— Без тебя знаю! Денег много принес?
— Принес, серденько мое, два рубля.
— Врешь!
— Ей-богу, два рубля! Вот я тебе покажу.
И он действительно показал ей только два рубля, потому что раньше отложил их, на всякий случай, отдельно от остальных. Потом они продолжали беседу, как добрые приятели.
— Панин вернулся?
— Когда еще вернулся! Бедная дитина ждала-ждала… Я ему же отдельно обедать дала. Хорошие у меня пирожки сегодня! Румяные да вкусные вышли!
Евгений Нилыч переоделся по-домашнему в халат, пообедал, призвал сына, гимназиста третьего класса, полного и белого, как постная булка, расспросил об уроках, сделал несколько наставлений и затем отправился в кабинет соснуть; но соснул ли — покрыто мраком.
Гости собрались часам к семи. Пришли: майор, полковник, облекшийся в парусину, аптекарь, высокий и худой, в сером костюме, с длинной, рыжей шевелюрой и так печально поднятыми у носа углами бровей, что у самого холодного человека сердце сжималось от жалости. Его звали паном консыляжем, то есть врачом, и «коморником» — по неизвестной причине. Был еще надзиратель гимназии, чрезвычайно солидный мужчина, с выбритыми, лоснящимися щеками и плавною речью, вызывавшею почтение. Он говорил о себе «мы» («Мы в совете решили… Мы выпили рюмочку водки…»), а о волосах — «гонор». («Мы уж вам говорили: вы свой гонор остригите — или пожалуйте в карцер…»).
Уселись на галерее, за чайный стол, уставленный закусками, и прямо приступили к злобе дня, предварительно, разумеется, пропустив по рюмке.
— Ну что? что нового? — посыпались вопросы.
— Преинтересные подробности! — начал полковник. — В это время девицы Зенкевич ужинали. Вот так старшая Зенкевич сидела, вот так младшая, а кругом девочки. Весь пансион. Воображаю себе картину: сидят это девочки, как бутончики, платьица у них, переднички… а? майор?
— Ну уж вы начнете!..
— Ха-ха… Ели пироги с творогом. Только что старшая Зенкевич взяла на вилку пирожок, обмакнула в масло и хотела, знаете, в рот положить — вдруг старуха Сабанская вбегает, «Ах, батюшки! Сейчас к нам придут!.. Насилу добежала… Ах, ах!..» Ну, натурально — все в обморок…
— Уж будто все? — усомнился майор.
— Ну, может и не все…
— И что же?
— И ничего. Известно — старуха!
— А зачем нам терять драгоценное время? — замогильным голосом, как бы произнося: memento mori, напомнил аптекарь.
— Э, батюшка! успеете еще! — заметил Евгений Нилыч не без резкости. В его обращении стала обнаруживаться двойственность. Он был любезнее обыкновенного с майором и профессором (так звали надзирателя, если не было более важных представителей гимназической администрации) и холоден к польской партии.