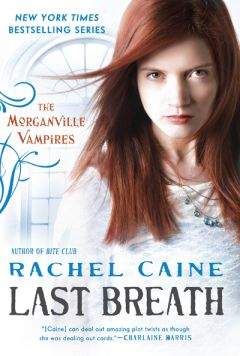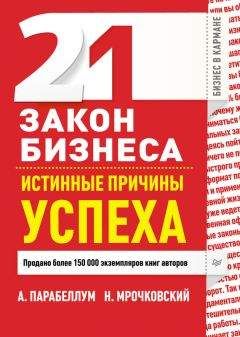Владимир Соколовский - Твой день и час
— Д-да… неблизко! А что так?
— Психанул на распределении. Я ведь распределялся первым на курсе. А как раз только перед этим узнал, что аспирантуру для другого готовят. Ну, и… А назад хода нет — придется ехать.
— Ну, отработаете, вернетесь — какая беда…
— Вернусь… Куда? К кому? Кому я здесь буду нужен? Я четыре года, пока учился, дворником в домоуправлении работал, там служебную комнатушку дают, вот мы втроем в ней и жили. А вернемся — и куда? Ладно, сейчас дочка маленькая еще, а подрастет — что же, снова по общежитиям с ней колесить? Нет, видимо — все, гроб…
— А по-моему, так это просто глупый пессимизм. С вашими умом да волей — надо ли бояться практической работы? Да вы там знаете как начнете шагать! В большие чины выйдете. Деньги, квартира… когда еще здесь все это получишь!
— Все так, все так… Но ведь вы со своей колокольни на это смотрите! Я вот всю жизнь юристом хотел быть, настоящим причем: еще в школе Кони, Карабчиевского, Спасовича читал, римское право учил, — а где мое место, усек на первом курсе, когда в кружок к Морсковатых пришел. Я научный работник и вузовский преподаватель по складу, по тяге своей, понимаете? Если это сейчас от меня уйдет, я просто не реализуюсь как личность, хоть это-то вы понимаете, Михаил Егорыч?
— А если я не поступлю? Я ведь тогда пропаду здесь, Костя. Ну, просто… сгину, пропаду, и все! Я еще не знаю, как это будет… но неважно ведь! А другого выхода отсюда я не вижу. Ты вот про себя говоришь… а у меня своя семья — ее тебе не жалко? Ну не могу я здесь больше, не люблю я все это. Видишь, какой расклад? Один грозит не реализоваться, другой… ну, ты ведь слышал все! И каждый хочет своего. И что теперь? Кого выберем? Кому из нас больше жить хочется? Или реализоваться? Нет уж, милый, потерпи. Пусть сейчас будет моя фортуна. Я хоть и не особенно отменно учился, а себе тоже дорог.
Томилин поднялся со скамейки; ни слова не говоря, пошел к калитке. Нет, этот парень не пропадет. Доброго, милый, пути…
Ч-черт, с этой аспирантурой, с клюевскими делами пропало столько времени! Пойти, поделать чего-нибудь хотя бы под конец дня…
6
За дверью слышались приглушенные голоса. Толкнул — заперто. Открывай, Фаридыч!
О, давняя теплая компания. Золотые люди города из числа татарского населения встретились в тихом закутке. За фаткуллинским столом приткнулись его шурин Герой Советского Союза Ахмет Гайнуллин, летчик-пикировщик, и зам управляющего строительным трестом Равиль Хуснутдинов, палочка-выручалочка Фаридыча в трудные моменты. Полбутылки коньяка они уже дернули. И без слов поднесли полстакана Носову.
— Что-то я сегодня, мужики… — стал было отнекиваться он, — не хочу, не надо бы мне…
— Цыц! — погрозил Равиль. — Поговори тут еще… Тебя старые солдаты угощают — забыл, какой скоро праздник? Не уважаешь нас? А отца своего уважаешь? У тебя отец инвалид, нам Анвар сказывал… Пей давай, не шлепай!
Вот окаянство… За первой бутылкой Ахмет вытащил вторую. Языки развязались, стало шумно и дымно. «Тише! Тише, мужики!» — взывал Михаил. Но его никто не слушал. Равиль, тыкая его пальцем в грудь, рассказывал, как он угодил на войне в штрафной батальон.
После второй колебаний не возникло: надо еще.
— С-салага! — замазанным, слегка заплетающимся голосом сказал Фаткуллин. — Морской закон знаешь?
Носову не хотелось никуда идти. Хотелось посидеть со славными мужиками, с «татаро-монгольским игом», как он их называл.
— Э! — вдруг хлопнул он себя по лбу. — Да у меня же есть. Как я забыл…
Он вытащил из сейфа бутылку коньяка, всученную ему вчера Розкой Ибрагимовой.
Те одобрительно загалдели.
В дверь постучали. Все замолкли, запереглядывались.
— Это я, откройте, не бойтесь, — послышался голос Демченко.
Носов повернул ключ и впустил Анну Степановну.
— Опять вы тут керосините! — сказала она.
— Сегодня нам положено, — заявил Ахмет, поворачиваясь так, чтобы начальница могла видеть Золотую Звезду на пиджаке.
— Дерни-ко с нами, Аня! — Фаткуллин полез в стол, отыскивая чистый стакан. — Ты ведь это… тоже каши солдатской поела…
— Вы хоть бы не орали так. Собрались и орете. У меня за стенкой и то голова заболела, а в коридоре что? Налетят Моня или Ачкасов… кому это надо? Ну плесни, Фаридыч, мне грамм тридцать. Не больше только. Каши-то я поела, это уж да… Зенитчицей была. Из десятого класса да в армию.
Выпили за фронтовых девчат; но Аня, прощаясь, строго наказала:
— Чтобы через пять минут вас здесь не было! Еще рабочий день даже не кончился… вы что? И вообще — другого места не нашли! И так про милицию столько сплетен, слухов идет… ты, Миша, мог бы уж и воздержаться. Ах, ладно…
Разлили до конца ибрагимовскую буылку. И, выпив, поглядели друг на друга.
— А! — вскричал вдруг Фаткуллин. — Айда все ко мне.
Ахмет что-то осторожно спросил у него по-татарски.
Фаридыч выругался.
— Да наплевать на нее! Одинова живем, верно? Сейчас еще купим… дома тоже маленько есть… Впер-ред!
В такси, пока ехали, всех развезло, и в фаткуллинскую квартиру вступили уже изрядно отяжелевшие. Сонии еще не было дома, а когда она пришла и попыталась навести порядок, усилия ее оказались абсолютно безнадежными: в квартире стояли такие шум, дым, гвалт, что она заплакала и ушла к своей престарелой матери — жаловаться на жизнь, мужа и брата Ахмета.
Вернулась она где-то утром, часов около около шести, и возвращением своим разбудила Носова. Он подождал, пока Сония пройдет в свою комнату, тихонько оделся и покрался в переднюю. Не стал даже умываться, чтобы не тревожить хозяйку: быстренько выскользнул за дверь. В квартире остались спящие на полу вповалку Равиль с Ахметом, и еле доползший до дивана Фаридыч.
Идти домой уже не имело смысла, да он и боялся встречи с Лилькой — опять там начнется… Лучше сразу ехать в отдел.
ВОСЬМОЕ, ЧЕТВЕРГ
1
Ранним трамваем он добрался до работы, поздоровался с зевающими дежурными и поднялся в кабинет. Там разостлал проходящие по делу с базы полушубки, накрылся одним и снова уснул.
Разбудило его клацанье ключа: появился Фаридыч.
— Что убежал? Вместе бы чаю попили, поехали…
— Да ну! — ответил Носов, подымаясь. — Там Сония, поди, все голосовые связки сорвала…
— Это она могет! — весело согласился Фаткллин. — На это она здорова. Да еще Ахметкина баба с утра набежала, такой хай на пару подняли… Ему ведь днем улетать надо, на встречу к однополчанам. Ну, да мы люди бывалые. Потом — что за шум может быть, вообще? Тридцать лет победы — это они понимают? Он что — каждый день бывает? Нам скоро новые юбилейные медали вручать станут. И капитанское звание я с Равилем и Ахметкой еще не обмывал…
В кабинете было грязновато, пахло вчерашним дымом. Фаткуллин распахнул окно, позвал уборщицу.
— А ведь амнистия, парень! — он взмахнул принесенной с собою газетой.
— Да что-о ты?! — воскликнул бреющийся Михаил.
— Да. К тридцатилетию Победы. Еще одна на нашу голову…
— Я пойду пройдусь немного, Фаридыч, — Носов взял со стола газету. — Голова очень болит, слабость… посижу в аллейке, почитаю заодно.
Какое было утро! Солнечное, сухое, молодая зелень лезет наружу. Чудесный запах весны донесся до прокуренного, запаленного водкой и едким духом следственных кабинетов нюха; Носов чихнул. Еще четыре-пять лет назад такого утра было достаточно, чтобы целый день чувствовать себя сильным, красивым, дерзким, и — все впереди! А теперь…
Он двинулся вдоль улицы, к недалекой аллейке. Так захотелось посидеть одному под деревьями, вдали от людей. Хоть и не делал в последние сутки ничего особенно предосудительного, но не проходило чувство осквернения, — будто его публично позорили, пачкали, исплевали. Господи, что за мука! И не верится, что возможна какая-то другая жизнь.
Сильно, близко гуднула машина; Носов оглянулся — на «жигуленке», весело махая ему руками и смеясь, промчались мимо председатель суда Анатолий Геннадьевич с Машенькой Киреевой.
Маша, Маша… Ах ты, бедняга! И сама еще не знаешь, куда залезла. Доносились слухи, что они живут уже, почти и не скрываясь, ночуют по дачам у знакомых, капитан Пашка извелся, почернел с лица. Однажды Носов видел, как Киреев сидел на лавочке возле суда — видно, ждал жену — но не мог заставить себя подойти и заговорить с ним. О чем, зачем?.. Что тебе предстоит, Маша, какой крестный путь — ты, счастливая сейчас, еще и представить не можешь. Ну, доживай, кати последние денечки. А машина уже запущена на полный ход: совещаются люди, бегут по следам быстрые и зоркие машины, пишутся и подшиваются бумаги, составляются планы мероприятий. Горько, горько будет плакать обоим! Одному — по утраченной разгульной воле, другой — по опоганенной любви.