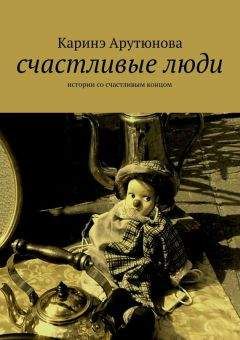И. Грекова - Пороги
Когда смех чуточку утих, раздались голоса.
— Бесподобный документ! Дайте списать! — радовался Кротов.
— А что это за объект по адресу Загородный, сорок? — спросил Малых.
— Комиссионный магазин, — ответил Фабрицкий.
— Почему именно в ФРГ? — допытывался Коринец.
— Вы же слышали: у меня там огромные суммы в банках.
— Как оформлено письмо? Есть ли обратный адрес? — спросила Магда.
— Напечатано на машинке через два интервала. Обратный адрес: Щербаков переулок, сто восемьдесят четыре, квартира двенадцать. Как вы понимаете, на Щербаковом переулке дома с таким номером нет.
— А среди ваших… скажем, близких знакомых, — ласково спросил Шевчук, — действительно нет женщины с такой фамилией? Может быть, вы просто забыли?
— Я забывчив, но не до такой степени, — ответил Фабрицкий.
Снова залп хохота.
— Вот это — правильное отношение к происходящему, — одобрил Полынин. — «Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым». Смех — великий очиститель. Где он прошел, не остается гнили.
— Будем надеяться, — сказал Фабрицкий, — что и наша гниль осталась в прошлом. Мы с вами прошли ряд тяжелых порогов, но не опрокинулись и остались на плаву. Даже если и будут еще письма, это все равно последнее. Важно верить в себя и не терять чувства юмора. Лично я был на грани того, чтобы его потерять. Перейдем к моему докладу. Кстати, его название «Об устойчивости нестрогих иерархических структур» как нельзя более подходит к ситуации. Ваш смех, за который я вас благодарю, лучше всего показывает, что наша с вами структура устойчива. Итак, — он вышел к доске, — рассмотрим иерархическую структуру, обозначим ее S. Будем называть структуру «нестрогой», если она удовлетворяет следующим аксиомам…
Фабрицкий застучал по доске мелом. Люди записывали.
41. В больнице
То собрание, с которого Гана увезли на «скорой помощи», вспоминалось ему как в тумане. Пока оно шло, Борис Михайлович слушал все менее внимательно, поглощенный своими ощущениями. Какая-то внутренняя волна поднимала его все круче и круче. Потом он почувствовал острую боль где-то под вздохом. Боль была настолько сильна, что он потерял сознание. Очнулся он в машине «скорой помощи». У него уже не болело, но он хорошо чувствовал, где у него не болит. Рядом сидела молоденькая сестра с тонким профилем и время от времени щупала его пульс. Городские огни убегали вдаль. Носилки, на которых он лежал, приятно покачивало. Должно быть, ему сделали укол. Его клонило ко сну, все вместе было блаженством.
Сквозь блаженство он чувствовал, как его вынесли из машины, внесли в коридор, переложили на каталку. Блаженство длилось. Под потолком горела цепочка ламп. Свет каждой лампы был почему-то не круглым, а спиралевидным. «Двойная спираль», — вспомнил он термин откуда-то из генетики. Что-то это значило, но он забыл что.
Молодая миловидная женщина в розовом халате и розовой шапочке, вероятно врач, о чем-то его спросила. Он не ответил. Его заливала полная отрешенность. Полчаса назад в институте его что-то волновало, сейчас перестало волновать. Там, где-то вдалеке, копошились маленькие человечки со своими маленькими интересами. Он видел их отсюда, из своей высокой отрешенности, и себя вместе с ними, такого же маленького, копошащегося.
Потом с ним что-то делали, должно быть снимали кардиограмму, потому что он поморщился от ощущения мокрого на груди. «Инфаркт под вопросом», — сказал молодой врач, черноглазый, очень высокий, еще увеличенный остроконечным колпаком. К своему диагнозу Ган остался вполне равнодушен. Потолочные лампы сияли и двоились.
Его вкатили в палату, переложили на койку. Блаженство продолжалось. В головах стоял высокий кислородный баллон, похожий на огнетушитель. Тумбочка была застлана салфеткой, крахмальные углы дыбились, один загнулся кверху. Борис Михайлович хотел поправить этот угол, но не мог шевельнуть рукой. Это показалось ему смешным, он попробовал рассмеяться, но тоже не мог. Он смеялся внутри себя, без звука и без движения. Входила сестра, что-то ему давала глотать. Полная заторможенность даже в глотании. Странным образом это тоже было частью блаженства.
Он заснул и видел хорошие сны. Какие-то бабочки летали над некошеным лугом, садились на лиловые цветы. Их лиловизна была отражением неба, тоже лилового от сгустившихся туч.
Утром он проснулся бодрым и по ощущению здоровым. От вчерашнего оставались только небольшое блаженство и частичная отрешенность. Он поднял руку (теперь она его слушалась) и внимательно ее разглядел. Рука была тонкая, бледная, с синими венами. Он не заметил, когда его рука стала старческой, но сейчас на ней явно читался возраст. Другая рука была не лучше.
Принесли завтрак. Он не без удовольствия съел несколько ложек каши, выпил стакан чаю. Сахар выдали ему на весь день, положив его в ящик тумбочки.
День смотрел в окно — хмурый, но прелестный. Ган попытался припомнить вчерашнее. Что-то такое происходило в институте. Нет, ему это было неинтересно. Даже кислородный баллон был интереснее. Он разглядывал его с любопытством.
Палата была на двоих. У противоположной стены лежал белый старик и дышал со свистом (наверно, астматик). Он был лыс, но небрит. Ган не без удовольствия провел рукой по своим волосам. Седой, но не лысый. Какая-то неисчерпанная жизнь переходила в его руку от прикосновения к волосам.
…Врачебный обход. Пришла палатный врач, Валентина Семеновна, та самая миловидная, в розовом халате и розовой шапочке, которая вчера в коридоре что-то у него спросила. Сегодня он мог говорить и отвечал охотно.
Она разговаривала с ним на «мы»: «Ну, как мы себя чувствуем? Давление у нас нормальное, разве чуточку повышено, но ведь нам не двадцать лет?» Борис Михайлович уверил ее, что чувствует себя хорошо, нормально, и это было правдой. Единственно ненормальным в его состоянии было чувство, будто голова куда-то улетает, но он на это жаловаться не стал. Спросил, можно ли ему вставать, она отвечала: «Ни в коем случае, разве через недельку». Ну до чего же милая! Очки у нее были в розовой оправе, и вся она была такая розовая…
Старик напротив долго скрипел, жалуясь на обслуживание и на то, что ему недодали полпорции масла: «Я же знаю, что такое двадцать граммов. Там от силы было десять!» Она говорила с ним внимательно, терпеливо; очевидно, внимательности и терпению их учат на студенческой скамье. «Хорошо бы, если бы и наших инженеров так учили обходительности», — подумал Ган. Опять вспомнил вчерашнее собрание и опять ушел от него мыслью.
Потекли однообразные палатные дни. Он просыпался рано, раньше всех в отделении, и, лежа на своей койке, смотрел в небо. Оно было серьезно-серое, холодное, иногда брызгающее дождем. Постепенно оно окрашивалось с одного боку персиковым румянцем. Приходило утро. Иногда оно приносило с собой солнце, тогда он радовался.
Утро начиналось со звуков. Бряканье ручки ведра. Шлепанье тряпки, которой протирали пол. Скрипение капризного соседа. Все эти звуки были отрадны, в них была жизнь.
Приходила дежурная сестра с букетом градусников в банке. Температура у него всегда была нормальная, но он ее с интересом мерил. У соседа она иногда повышалась, это тоже было любопытно. Обед был целой гаммой разнообразнейших ощущений. Никогда он дома с таким интересом не съедал обед.
Каждый день в посетительский час, с четырех до шести, приходила Катерина Вадимовна. Он ждал ее с радостью, но без нетерпения. Она садилась рядом и глядела на него серыми глазами, целиком сделанными из любви. На вопрос о самочувствии он всегда отвечал: хорошо. Она приносила фрукты. Он их принимал из вежливости, но не съедал, а отдавал нянечке.
Из трех сменяющихся нянечек у него была любимая — Анна Ивановна. Сильно пожилая, веселая, с утра собиравшая по всему отделению бутылки, к середине дня успевавшая их реализовать. Выпив в свое удовольствие, она неизменно «улетала в космос». Там, очевидно, сила тяжести была нормальная, потому что Анна Ивановна ходила вся изукрашенная синяками. Лоб она туго перевязывала сложенной косынкой, за что скрипучий сосед прозвал ее пиратом. К своим обязанностям она относилась равнодушно-отрицательно, только как к источнику рублей. За каждую услугу плата была стандартная: рубль. Как-то Борис Михайлович сунул ей рубль и попросил поправить сбившееся одеяло. Анна Ивановна взяла рубль, одеяло приподняла, уронила и сказала: «И так хорошо». Борис Михайлович с юмором об этом рассказал Катеньке, но та восторга его не разделила.
Странное дело, ему совсем не хотелось читать. Катенька приносила книги, он к ним не притрагивался. Ему и так было не скучно. Одно дерево за окном чего стоило, со всей птичьей мелюзгой, его населяющей, с лимонно-желтыми, подсохшими, на ветру шевелящимися листьями. А вечером, когда в палате зажигали свет, Ган лежал и, щурясь, смотрел на припотолочные лампы, удивляясь разнообразию и разноцветности своих собственных ресниц: ведь это от них шли радужные лучи во все стороны.