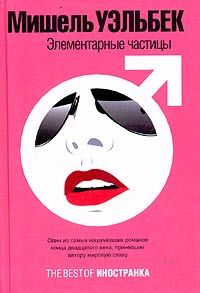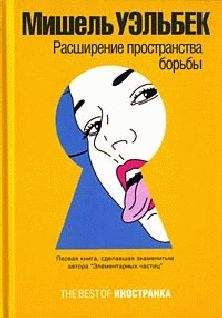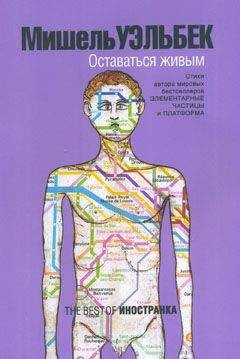Мишель Уэльбек - Элементарные частицы
Он затормозил у перекрестка. Джерзински подошел к низенькой каменной ограде, окружавшей луг. Коровы спокойно щипали траву, терлись головами о бока своих товарок; две или три прилегли. Генетический код, управляющий репликацией их клеток, был создан им или, по меньшей мере, он его усовершенствовал. Для них он должен быть чем-то вроде Господа Бога; а между тем его присутствие им, похоже, безразлично. Гряда тумана ползла с вершины холма, постепенно скрывая стадо из виду. Он вернулся к машине.
Сев за руль, Уолкотт закурил «Кревен»; дождь заливал ветровое стекло. Своим мягким, сдержанным тоном (однако эта сдержанность, по-видимому, отнюдь не говорила о равнодушии) он спросил:
– У вас случилось горе?
И тут Мишель поведал ему всю историю Аннабель, вплоть до самого финала. Уолкотт слушал, изредка покачивая головой или вздыхая. Когда рассказ кончился, он, не прерывая молчания, раскурил новую сигарету, потом затушил ее и сказал:
– Я происхожу не из Ирландии. Родился в Кембридже и, похоже, в большой степени так и остался англичанином. Часто говорят, что англичан отличают такие достоинства, как хладнокровие и самообладание, а также манера воспринимать жизненные обстоятельства – в том числе трагические – с юмором. Примерно так оно и есть; и это полнейшее идиотство с их стороны. Юмор не спасает; в конечном счете от юмора нет почти что никакого толку. Можно долго с юмором относиться к явлениям действительности, это порой продолжается многие годы; в иных случаях удается сохранять юмористическую позу чуть ли не до гробовой доски; но в конце концов жизнь разбивает вам сердце. Сколько бы ни было отваги, хладнокровия и юмора, хоть всю жизнь развивай в себе эти качества, всегда кончаешь тем, что сердце разбито. А значит, хватит смеяться. В итоге остаются только одиночество, холод и молчание. Ничего нет в конечном счете, кроме смерти.
Он включил дворники, снова завел мотор.
– Здесь много католиков, – прибавил он еще. – Но все меняется, к тому идет. Ирландия модернизируется. Многие высокотехнологичные предприятия встали на ноги, пользуясь уменьшением социальных выплат и налогов – в этом регионе мы имеем «Роч» и «Лилли». И, само собой, «Майкрософт»: вся здешняя молодежь мечтает работать на «Майкрософт». К мессе теперь ходят реже, сексуальной свободы стало больше, чем несколько лет назад, и дискотек все больше, и антидепрессантов тоже. Короче, все по классическому сценарию…
Они ехали вдоль берега озера. Солнце проглянуло сквозь гряду тумана, расцветив водную поверхность радужными разводами.
– Однако, – продолжал Уолкотт, – католицизм все еще здесь остается в большой силе. К примеру, большая часть технического персонала Центра – католики. Это не способствует моему сближению с ними. Они корректны, учтивы, но смотрят на меня отчасти как на чужака, с которым по-настоящему не потолкуешь.
Солнце окончательно выпуталось из тумана, вокруг него образовался круг безупречной синевы; и стало ясно видно озеро, все целиком залитое потоками света. На горизонте горные цепи Твелв Бенс накладывались друг на друга в гамме бледнеющего серого цвета, будто кадры с кинопленки сна. Оба молчали. Когда въезжали в Голуэй, Уолкотт заговорил снова:
– Я остался атеистом, но могу понять, как здесь становятся католиками. Это в некотором отношении совсем особенный край. Все постоянно дрожит, и трава на лугах, и водная поверхность, все как будто указывает на некое присутствие. Свет мягок и подвижен, словно меняющаяся материя. Сами увидите. Здесь небо и то живое.
6
Он нанял квартиру близ Клифдена, на Скай-роуд, в старом помещении береговой охраны, переоборудованном в гостиницу для туристов. Украшением комнат служили прялки, керосиновые лампы, короче, старинные предметы, призванные радовать глаз туристов; ему это не мешало. Он знал: в этом доме, да и вообще в жизни ему отныне суждено чувствовать себя как в гостинице.
У него отнюдь не было намерения вернуться во Францию, но в первые недели ему пришлось несколько раз ездить в Париж – заниматься продажей квартиры и переводом счетов. Он вылетал рейсом 11.50 из Шаннона. Самолет летел над морем, солнце добела раскаляло водную гладь; волны напоминали червей, которые переплетаются и грызут друг друга на огромных пространствах. Он знал, что под этой гигантской пеленой червей плодятся моллюски, грызущие их плоть; тех пожирают острозубые рыбы, которых потом заглатывают другие рыбы, покрупнее. Часто он задремывал, ему снились дурные сны. Когда он просыпался, самолет уже летел над сельской местностью. В своем полусне он дивился, отчего это поля имеют такой однообразный цвет. Они были коричневыми, иногда зелеными, но всегда блеклыми. Парижское предместье было серым. Самолет терял высоту, медленно опускался, неуклонно притягиваемый земной жизнью, дыханием миллионов существ.
Начиная с середины октября полуостров Клифден поглотил густой туман, приносимый прямиком с Атлантики. Последние туристы разъехались. Было не холодно, однако все тонуло в мягкой, глубокой серости. Джерзински редко выходил наружу. Он привез с собой три съемных винчестера с базой данных более чем в сорок гигабайт. Время от времени он включал микрокомпьютер, немного занимался молекулярными структурами, потом ложился на свою великанскую кровать, кладя пачку сигарет на расстояние вытянутой руки В Центр он пока не возвращался. За оконным стеклом медленно ворочались клубы тумана.
Около 20 ноября небо очистилось, погода стала холоднее и суше. Он завел привычку совершать длительные пешие прогулки по береговой дороге. Минуя Гортрамнаг и Ноккавалли, он чаще всего доходил до Кладдегдаффа, иной раз и до Огрус Пойнта. Тогда он оказывался на самой западной оконечности Европы, в крайней точке западного мира. Перед ним простирался Атлантический океан, четыре тысячи километров воды отделяли его от Америки.
Если верить Хюбчеяку, эти два или три месяца одиноких раздумий Джерзински ничего не делал, не поставил ни одного эксперимента, не программировал никаких расчетов, надобно признать самым важным периодом, в течение которого наметились главные элементы его позднейших концепций. Так или иначе, последние месяцы 1999 года были для всего европейского населения в целом странной порой, отмеченной особыми ожиданиями, чем-то вроде глухого предчувствия.
Тридцать первое декабря 1999 года пришлось на пятницу. В клинике Верьер-ле-Бюиссон, где Брюно суждено было провести остаток дней, был устроен маленький праздник, общий для пациентов и обслуживающего персонала. Пили шампанское, закусывая чипсами с паприкой. Позже, в разгар вечеринки, Брюно танцевал с медсестрой. Он не чувствовал себя несчастным; лекарства делали свое, и все желания в нем были мертвы. Он любил поесть, пристрастился к телеиграм – зрелищу, которое перед ужином смотрели все сообща. От смены дней он больше ничего не ждал, и этот последний вечер второго тысячелетия прошел для него недурно.
На погостах всего мира недавно почившие продолжали гнить в своих могилах, мало-помалу превращаясь в скелеты.
Мишель провел вечер у себя дома. Его мысли бродили слишком далеко, чтобы он мог расслышать эхо празднества, разгоревшегося в поселке. Несколько раз его посещали воспоминания об Аннабель – смягченные временем мирные картины; образ бабушки тоже являлся ему.
Он припомнил, как в возрасте лет тринадцати-четырнадцати он покупал карманные фонарики, маленькие механические устройства, которые ему нравилось без конца разбирать и собирать снова. Вспомнился и самолетик с мотором, подаренный бабушкой, который ему никогда не удавалось поднять в воздух. Это был красивый самолет цвета хаки; в конце концов он так и остался лежать в коробке. Его бытие, освещенное токами воспоминаний, похоже, было наделено некоторыми индивидуальными чертами. Есть существа, и есть мысли. Мысли не занимают места. Существа же оккупируют часть пространства; мы видим их. Их образ формируется на кристаллике, проникает сквозь влагу слизистой оболочки глаза, попадает на сетчатку. Один в пустом доме, Мишель присутствовал на скромном шествии воспоминаний. На протяжении вечера в его мозг мало-помалу проникала, наполняя его, единственная непреложная уверенность: скоро он сможет опять приняться за работу.
Повсюду на поверхности планеты род людской, усталый, вымотанный, сомневающийся в самом себе и в собственной истории, худо ли бедно, готовился вступить в новое тысячелетие.
7
Кое-кто говорит:
«Наша новая цивилизация еще так молода, еще так непрочна,
Только-только пробились мы к свету,
Мы все еще носим в себе опасную память о прежних веках,
мы ее не изжили сполна,
Может быть, лучше не бередить, не затрагивать это?»
Тут рассказчик встает, собирается с мыслями, напоминает,
Спокойно, но твердо напоминает
О том, что в мире произошла метафизическая революция.
Точно так же, как христиане могли размышлять об античности,
изучать историю древнего мира,
не рискуя вернуться к язычеству, усомниться в Христе,
Потому что они перешли уже некий рубеж,
Шагнули на следующий уровень,
Миновали водораздел;
И как люди эпохи материализма могли созерцать
христианскую службу невидящим взором,
оставаясь глухими к ее содержанию,
Как читали они христианские книги, принадлежавшие их же культуре,
взглядом чуть ли не антропологов, изучающих каменный век,
Не умея понять, что же так волновало их предков
в спорах вокруг благодати или определения греха;
Так же и мы в состоянии сегодня выслушать эту историю
из прошлой эпохи,
Просто как повесть о людях минувших времен.
Эта повесть печальна, но нас не встревожит,
не вызовет слезы и вздохи,
Ибо мы не похожи нисколько на этих людей.
Порожденье их плоти, дети их грез,
мы отвергли их ценности, их представления,
Нам непонятны их радости, как и томления,
Мы отринули
С легкостью,
Без усилья,
Их пронизанный смертью мир.
Те столетия боли и горя без меры
Мы сегодня должны из забвенья вернуть.
Безвозвратно окончилась старая эра,
Мы свободны вершить независимый путь.
Между 1905 и 1915 годами Альберт Эйнштейн, почти совсем один, притом, обладая ограниченными математическими познаниями, смог – исходя из первоначально интуитивной догадки, предопределившей принципы собственно теории относительности, – разработать общую теорию гравитации, пространства и времени, которой предстояло оказать решающее воздействие на развитие позднейшей астрофизики. Этот дерзкий, одинокий труд, совершившись, по выражению Гилберта, «к чести человеческого разума» в области, по видимости далекой от какой-либо полезной практики, и в эпоху, непригодную для создания исследовательских сообществ, можно сравнить с работами Кантора, создавшего типологию становящейся бесконечности, или Готлоба Фреге, пересмотревшего основания логики. Равным образом, как подчеркивает Хюбчеяк в своем предисловии к «Клифденским заметкам», можно уподобить его одиноким интеллектуальным усилиям, между 2000 и 2009 годами предпринятым в Клифдене Джерзински, – тем паче что Джерзински еще в большей мере, чем в свое время Эйнштейну, не хватало математического обеспечения, чтобы подвести под свои догадки по-настоящему строгий фундамент.