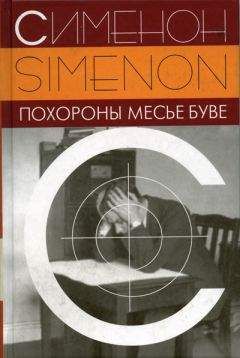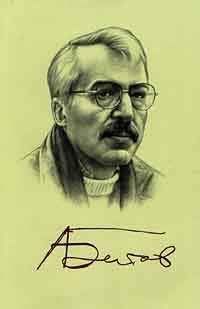Василина Орлова - Пустыня
И во всём этом ну нет того мгновения, когда можно сказать: «Ну слава Богу, теперь так плохо, что хуже уже не будет. И завтра, если не начнется выздоровление, наступит смерть». Страданию, безумству, кошмару всегда остается, куда продолжаться. А смерть всё не наступает. Я насмотрелась на сумасшедших. От них даже оболочки человеческой подчас уже не остается, а они всё ещё живы. Лица одутловаты, обессмысленны, как морды спящих животных — да и то, физиономия моей собаки во сне выражала целые гаммы чувств — из угла рта течет слюна, а они даже не замечают. Не контролируют.
О Господи, Господи. Как верить в Тебя после этого?
Да моё сегодняшнее состояние — просто чудо самообладания, свободы, спокойствия, по сравнению с тем, в которое ввергла одна-единственная маленькая таблеточка с безобидным симпатягой-зайчиком.
Наверное, Дмитрий воспринял как предательство. Предательство по отношению к нему — да так, собственно, оно и было. Я встретилась с Филиппом, естественно, ничего не сказав жениху, более того, выдумала историю о встрече с однокурсниками — ничего глупее и трагичнее я сделать не могла, как пойти на то сомнительное свидание.
Но я отчаянно боролась с Дмитрием — хотя и любила его. Нет, именно потому, что любила. Может показаться непонятным, но кто чувствует, что я в чём-то похожа на него самого, поймет. Остальным объясню: я сопротивлялась тому, что в мою жизнь пришел человек, и заявил на меня свои права как на нечто, ему одному принадлежащее.
Он стал довольно быстро просвечивать весь мой день: «Чем ты занималась? Куда ходила? Где была? С кем встречалась?» Характер этих вопросов спервоначалу был нащупыванием темы для разговора, я рассказывала о ярких впечатлениях, смешила его; потом вереница превратилась в ритуал, предваряющий разговор, и я отделывалась односложными высказываниями — уже были предметы поважнее, поинтереснее для обоих, и вызывала смутную и лёгкую досаду настойчивость Дмитрия. И вот теперь я должна была лгать, отвечая на вроде бы уже ставшие обычными расспросы.
Думаю, тогда, в период такого страшного помрачения рассудка, я и заставила Дмитрия потратить в один-два месяца весь запас терпения, веры, любви, заботы, предназначенный не на один год. Потому что воистину сверхчеловеческое терпение потребовалось от него, чтобы простить — или убедить себя, что простил — мою первую опрометчивую неверность, раннее предательство. Потом будут и другие. В браке люди всегда предают друг друга — впрочем, вне брака тоже. Конечно, мы не небожители, живём в определенных условиях, тисках, обстоятельствах, подчинены своим характерам, манерам, привычкам, всё это так успокоительно, приводить подобные резоны. Они не могут служить оправданием, а между тем служат им, потому что очень весомы. Как говорят, невозможно переоценить.
В растерянности, что крах все-таки состоялся, я как-то высказала эту мысль в разговоре с Наташей — потратили богатства, которые предназначались на всю жизнь, промотали в рекордно короткие сроки. Она ответила в таком духе: любовь не есть нечто, что имеет конец и что можно потратить, истощить, как денежные средства. Любовь — всегда обновляющихся источник, раз уж он открыт, выпить его весь вряд ли возможно… Это и так и не так.
Диалектика свободы учит, что можно совершить ошибку и поступив единственно честным способом, приняв единственное необходимое решение.
Да, я проклинала тот день, когда познакомилась с ним. Но никогда не думала, что тот день мог бы не состояться.
И ни потом, ни теперь, ни до того, ни после я не сожалела, что вышла замуж и что мы венчались. Я как-то записала в дневнике: один из немногих поступков, которые я совершила сознательно и правильно во всех смыслах слова.
И все-таки я сделала тогда ошибку.
Ума не приложу, как одно может сочетаться с другим.
Заварю-ка я себе ещё чаю, мой невидимый и невиданный собеседник. Нам ведь некуда торопиться, не так ли? Ты всё ещё слушаешь меня? Терпишь? Ты внимателен? Я тебе интересна? Дальше ведь до самого конца ничего другого так и не будет. Удивительного поворота, цепляющей метафоры, занятного сочетания слов, интеллектуальной новинки… Ничего.
Я стараюсь вносить сюда только то, что прожито, усвоено, овеяно, оглажено, обласкано раздумьями. Что очень важно мне. Но будет ли важно тебе — не имею понятия. Перебирая московские встречи, пассажи, обстояния, вижу их колоссальное однообразие. Конечно, некого винить — кроме себя, некому указывать на подобную улику. Моя жизнь, и проживаю, как проживаю. Среди всех эпизодов только в нескольких дрожит звенящая игла, пронзающая сердце. Их-то и пытаюсь вшить в ткань текста. Остальное, что я помню, слишком безопасно для кокона, в который завертываешься. Наполнено неистинным, неправедным. Слишком уютно, порой упоительно, порой просто забавно, весело. Таких я могла бы набросать, хватает. В них даже были бы в известной и достаточной мере обобщения.
Есть и другие случаи. В которых скучно, тоскливо, однообразно, серо. Продолговатый день, унылая обыденность. Хилая перемежающая депрессия — отчаянная неправда, которую очень хочется принять за правду, когда наконец опостылели развлечения и увидел вокруг «ничего хорошего». Подобные состояния уже кажутся более верными, более близкими к настоящему, но и они обман.
Так всю жизнь можно успешно провести в спячке, пройти по внешней кромке, невглубине от поверхности.
А правда обретается где-то совсем в других местах, эпизодах, встречах. Они могут быть веселы, а могут — грустны, главное в них не то. Правда — где больно, неловко, стыдно и страшно. Там обычно не по себе, но так потому, что ворохается подлинное я, а не привычное «себя».
Мечта — прельщение. Бред не приветствуется. Когда в первый раз была в Ялте, как и многие совсем юные, первоначальные девушки, я грезила наяву. Тем более в таких сиреневых, каменных, виноградных, морских декорациях. Мушкетёры рядом с автомобилями.
Я встретила в Ялте тогда, несколько лет тому, человека. Василий, в бейсболке, бородатый. Видимо, таков местный типаж. От него исходило дуновение некоторой подлинности. Подарил открытку с котёнком. На оборотной стороне прочерченные и затем тщательно стертые карандашные линии, по линиям расселись аккуратные ласточки хвостатых букв:
Играет джаз, я стих пишу,
Он ваш, как ваше моё имя…
Однажды позвонил в Москву.
— Хотел тебе сказать, за последние несколько лет обнаружил, что всё написано — тебе.
— Я вышла замуж, — сказала сразу.
— Счастливо?
Я даже не поняла вопроса.
— А? Я — счастлива. Да.
— Я говорю, ты счастливо вышла замуж?
Я немного возмутилась. Дмитрий услышал, что говорю по телефону, приник к трубке с другой стороны ухом. Но и тогда не схлынуло моё возмущение, не переключилось на Дмитрия: «Я — это ты».
Ад. «Дахау» отдыхает. Когда ты — это я, ты не слушаешь мои телефонные разговоры, и я от тебя ничего не скрываю. Сказать себе тогда, в той юной Ялте — захохотала бы. А ведь не то что терпела — просто знала: «Он — это я». (Нет, в такой формулировке — не работает).
Может быть, Василий и сейчас здесь. Но нам не надо встречаться, думаю.
Видела лицей, попечителем коротого был Чехов, когда заведение состояло ещё женской гимназией. Высокие, угрюмые каменные стены. Как они сочетались с песнями юных щебетуний? Наверно, вполне сочетались. Юную женщину надо оберегать от всяких нелепостей. Лучше в таких вот стенах.
Даже не представляю, как я смогу переживать всё снова, во время взросления моей грядущей дочери — с сыном легче, но тоже. Да, я буду страшно беспокоиться. Я по-прежнему и посейчас не понимаю — как отважиться сюда рожать? И дело даже не в террористических актах и возможном насилии, Господи, сохрани. А в самом строе событий, в самой лаве, потоке, сели — информации, событий, встреч, взглядов, разочарований. Конечно же, рожать сюда — либо безоглядная отвага, либо вопиющая глупость. Особенно девочку.
Но и на это мне придется однажды осмелиться.
Придется, потому что так предсказано. Каждая женщина, не только Мария, получила такое предсказание, и каждой однажды придется понять, что её дитя распнут.
Но, казалось бы, если уж всё равно живу, почему бы и не отважиться жить, правда?
Такой порыв влечет ненужные завихрения. Но что лучше?
Жизнь как бесконечный аперитив. Черновик. Ожидание будущего. Или — бесконечные поцелуи без…
Вот-вот, сейчас, оно и начнется. В частности, принесут первое блюдо.
Избегание. Вечная внутренняя эмиграция. Как приехать в Нью-Йорк и начать ныть среди русскоязычной публики об оставленных-потерянных положении и близких сволочах, вместо того, чтобы нырнуть в город, очертя голову.
Давать уроки рисования и во всю трудовую деятельность не дописаться до единой картины. Английский — и не почитать Кольриджа.