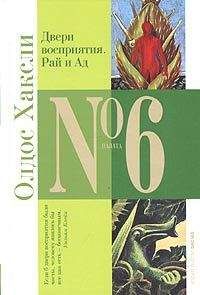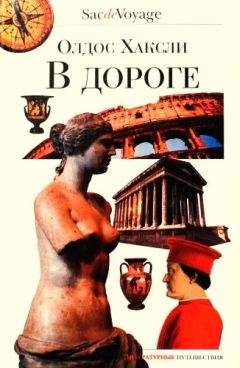Фридрих Горенштейн - Псалом
– Подавай в Литературный. Ты парень русский, волжский, талантливый, примут.
Сам Сомов, который годился Копосову в отцы, подавал уже несколько раз, но терпел неудачу. Ныне, однако, он был уверен в успехе, поскольку имел наконец рекомендацию от местного агитпропа.
– Они на меня зуб держат за сатирические стихи об инвалиде Иване Прохорове, – пояснил Сомов, – стихи эти теперь в Москве по рукам ходят… Эх, Москва. Ты, Андрюха, не представляешь, что там за литературная жизнь. И половая тоже недурна, все девушки курят… Ну, ты не красней, вот юноша…
Первые стихи Андрея, которые опубликовала «Борская правда», начинались:
Хлеба краюха и Волги глоток…
– Да у тебя народный талант, – говорил Сомов, – сейчас это очень ценят… Надоела всем еврейская литература… «Хлеба краюха и Волги глоток» – это уже нечто от русского христианства.
Так, впервые, на шестнадцатом году жизни услыхал Андрей о русском христианстве как о чем-то важном и серьезном, отличном от прежних его комсомольско-молодежных представлений и смешных старушек на паперти.
Сейчас, сидя в московской комнате, которую он удачно снимал у московской старушки, ибо она большую часть своего старушечьего времени проводила у своего женатого сына, сейчас, вспомнив этот изначальный разговор и чувствуя себя совершенно иным человеком, чем он в действительности не был, Андрей испытал свойственный подобным натурам жгучий прилив стыда наедине с собой и перед собой за себя самого.
Действительно, приехав в Москву, Андрей еще в большей степени стал себе подобным, то есть еще сильней укрепился в юношестве, однако по-иному, чем Савелий, без стыдного страха перед девушками, а обособляясь от них как от людей. Впрочем, от людей он не бежал, но больше любил посидеть наедине. Став студентом Литературного института, он стихи писать разлюбил, однако над искусством задумывался и научился получать от него счастье до слез. Приобщился он и к религии, сперва через глупые споры в компаниях, а затем и через свои размышления. И в этих постоянных болезненных, часто не по летам тяжелых размышлениях многое ему открылось. Например, с некоторых пор он догадывался, что основная мысль гуманистов о том, что нет дурных народов, все народы хороши, безвкусна, как лечебная пища, лишенная мясных соков и соли. В ней было так же мало таланта, как и в расистской мысли о преимуществе одних народов над другими. Но расистская мысль хотя бы обладала плотью, пусть свиной, немытой, но здоровой плотью любви к себе и нелюбви ко всему вне себя. Он знал уже, что вход в этот лабиринт – через детские вопросы христианства о добре и зле. Что чуждая Христу христианская топь метафизических вопросов отняла у западной культуры значительную часть ее духовной силы, не давая подойти к тем библейским истинам, которые лежат в фундаменте бытия. Иногда он сознавал это настолько ясно, что все духовные муки гениев прошлого казались ему понятными. Это и смущало его, это и пугало его, это и уводило прочь от ясности к известным и признанным в московском молодежном обществе толкователям евангельских истин, которые брали над ним верх. И вновь он попадал в заколдованный круг христианских разговоров о добре и зле, где люди, которых он считал глупее себя, говорили умнее его и приводили неопровержимые доводы. Попытка же возразить приводила к тому, что он выглядел человеком реакционным, злым, чуть ли не расистского направления, и когда однажды в споре один нервный человек, Вася Коробков, кстати говоря, известный антисемит, крикнул ему «фашист», Андрей понял, что сложившиеся веками евангельские истины, так, как они навязывались авторитетными толкованиями, действительно не оставляли человеку здорового индивидуального рассудка иного пути: либо принять эти истины, как они сложились в течение пятнадцати веков, либо стать расистом. Это его пугало, и он перестал ходить в компа-нии с духовно-религиозными разговорами, оставив за собой прочную репутацию реакционера и человеконенавистника, а по выражению Васи, репутацию потомка в пятнадцатом колене тех самых фарисеев, которые отвергли и распяли Христа. И в этот момент, когда Андрей перестал себе доверять и пал духом, он наткнулся на Моисеево отношение к народу. Собственно, ему приходилось много раз слышать о разбитых Моисеевых скрижалях и даже читать и перечиты-вать о том, как Моисей вознегодовал на изменивший Богу народ свой и разбил первые скрижали и что лишь по уговору Господа написал он вторые скрижали. Но читал это без интереса и душевного напряжения, которые вызывали в нем места из Евангелия.
И вдруг однажды утром, часов около одиннадцати, когда квартирная хозяйка отсутствовала и он был совершенно один, Андрей прочел о Моисеевых скрижалях как бы впервые и с каким-то чувством восторженного удивления, точно не положил в этот раз, как обычно, старую, куплен-ную по случаю, неопрятную Библию на обеденный стол, покрытый старушечьей скатеркой довоенного образца, не перелистал залапанных страниц, а совершил вдруг восхождение за истиной куда-то вверх, в гору, поближе к себе и подальше от народного коммунального бытия.
Гуманисты учили, что нет дурных народов. Это было благородно, но требовало насилия над собственным здравым смыслом. Расисты учили, что есть народы высшие и низшие, причем к высшим они причисляли «по знакомству» себя и своих близких. Это было неблагородно, но реалистично и в духе повседневности. Моисеево же библейское учение, если в него вдуматься, находясь в том душевном состоянии, которое открылось в то утро Андрею, говорило, что хороших народов нет вовсе. Это не требовало насилия над здравым смыслом и не давало никому врожденных неблагородных преимуществ. Это была ясная, прочная отправная точка, идя от которой многое можно было понять в материальной истории и в духовной жизни человека. Библия говорила вовсе не то, что утверждали многие ее сторонники, и не содержала в себе того, что отрицали ее враги. Более того, если Библия ортодоксов лишь спесиво замыкалась в себе под яростным многоликим и уличным напором влюбленных в свою метафизическую идеологию христиан, то Библия живая показывала неправду и языческую суть культа мучений как основы нравственности, показывала подмену основного второстепенным, показывала, что гуманизм – обожествление человека и расизм – обожествление расы являются хоть и поздними, хилыми, но зачатыми в страсти братья ми этого культа людских телесных мучений.
Все это Андрей понял разом и записал без помарки на четвертушке бумаги за какие-нибудь полчаса. Он знал, что более сейчас не поймет ничего, а в том, что понял, вскоре начнет сомневаться. Потому он не стал искушать себя новыми надеждами, торопливо закрыл Библию, спрятал записанное своим почерком, но будто чужой рукой, не в свои бумаги, а туда, где хранились деньги и документы, в потайной карман куртки, висевшей за шкафом, куртки, которой любой вор побрезгует из-за старости ее.
Было без восьми минут двенадцать; время, когда он в тот день окончил свою подлинную жизнь и начал ложную, Андрей засек точно. Ложную свою жизнь он начал с приготовления завтрака, вышел на закопченую коммунальную кухню с индивидуальными столиками по числу проживающих семей и поставил на плиту хозяйскую сковородку, вылил на застывший от прошлых жарений жир несколько яиц, и, глядя, как шипит яичница, задумался о том, как провести удачнее день, чтоб не потерять и не обесценить только что найденное. Если продолжить оставаться наедине с собой, то это значит прожить день жизнью умственной, целенаправленной, сосредоточенной на одном, а это, безусловно, повлекло бы к сомнениям и могло бы перечеркнуть найденное. Если же встретиться с людьми по бытовым пустякам, то это значит постоянно сравнивать свое затаенное с происходящими вокруг бытовыми пустяками и в результате, во-первых, оставить о себе дурное впечатление, а во-вторых, некрепкую еще мысль свою столкнуть с устоявшимся, осязаемым и прочным, отчего опять же найденное измельчает и поблекнет. Потому лучше всего было бы провести день с людьми, однако не по-бытовому и желательно не в религиозных спорах. Тут вспомнилось, что в Третьяковской галерее открыта выставка французского художника, бывшего эмигранта из России, выставка, производящая шум и рождающая неофициальный шепот. «Вот удача, – подумал Андрей, – заодно Третьяковку посмотрю, давно не был. Позвоню Савелию, Саше Сомову, земляку. А вот возьму и позвоню еще и Васе Коробкову, пусть будут разные люди. И наедине я не окажусь весь день, и среди разных людей меньше будет откровенных, мелких дружеских разговоров. Ни к чему они мне сейчас».
Было лето, начало июня, занятия в институте подходили к концу, приближались экзамены, к тому же сегодня, согласно институтской специфике, был творческий день, свободный от лекций. «В другой раз на выставку не попаду, говорят, недолго будет», – подумал Андрей и, сняв сковородку, погасив огонь, пошел к коммунальному общественному телефону, который в это рабочее время не был, к счастью, занят соседями. Первым позвонил он Савелию. Ответил женский голос, мать или соседка. Савелий еще спал, и Андрей минут пять вслушивался в потрескивание и гудение телефона. Наконец застучало, послышались отдаленные голоса, мужской и женский, и Савелий, отхаркиваясь, кашляя, сказал: