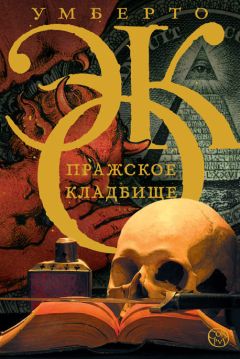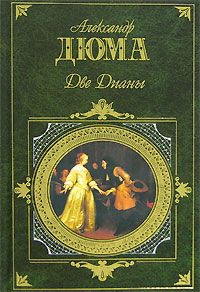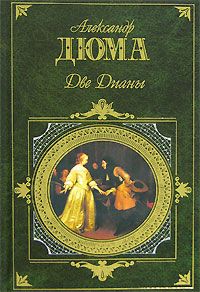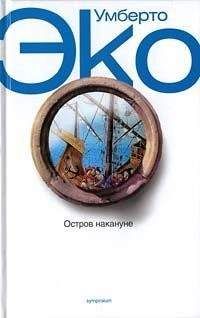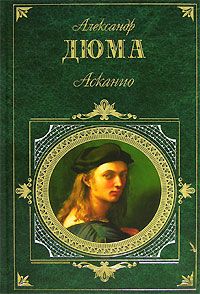Марсель Эме - Помолвка: Рассказы
— Аристид, — сказал он резким тоном, — извольте немедленно вернуться в свои апартаменты, рысью, понятно?
При этих словах кентавр покраснел до ушей, но все с тем же скромным видом приблизился к группе и, остановившись в трех шагах от маркиза, ответил:
— Папа, я прошу вас простить меня за огорчение, которое я вам причиню, но вы требуете от меня невозможного.
— Невозможного? Что вы хотите сказать?
— Папа, я буду в отчаянии, если вы на меня рассердитесь, но поймите меня. Я не хочу больше жить затворником. Я хочу узнать свет.
— Бросьте ребячиться, Аристид. Повинуйтесь!
Аристид упрямо уставился на свои передние копыта и не двигался с места. Маркиз вытер капли пота, проступившие у него на лбу, и повернулся к своим гостям, растерянно улыбаясь. Монсиньор искоса наблюдал за ним, поджав губы, с выражением сдержанного любопытства. Барон де Каппадос сурово смотрел на зятя.
— Албан, — холодно сказал он, — я жду от вас объяснения.
Маркиз попросил Аристида отойти на минутку. Он старался поймать взгляд жены, словно ища у нее помощи и поддержки, но ничего не добился. Она стояла без кровинки в лице, с померкшим взором, не в силах произнести ни единого звука.
— Любезный тесть, — начал он деланно развязным тоном, — я бы не хотел посвящать вас в эту тягостную тайну. Наше пребывание на этой земле так мимолетно. Все суета. Жизнь — это фарс, иллюзия, чехарда, обман, волан, дурман, ресторан, передник без карманов, ледник, изъеденный мышами, посредник…
— К делу! — завопил барон де Каппадос.
— Ну, так вот что случилось, но не думайте, все это очень просто.
Маркиз позволил себе небольшую передышку. Он привлек к себе жену, сжал ее бледное лицо большими ладонями и ласково улыбнулся ей. Аристид отошел к тому самому кусту, из которого он перед тем вынырнул, и разглядывал Эрнестину Годен со страстным любопытством.
— В тысяча девятьсот сорок первом году, когда вы жили в Амбере, по ту сторону демаркационной линии, Эстелла забеременела. Какое это было счастливое событие! Нас радовала надежда, оживившая наше одиночество. Вы же знаете, чем была наша жизнь во время оккупации. Мы были отрезаны от мира, вдали от всего, без машины и — увы! — без развлечений. Главной нашей поддержкой было чтение. Эстелла страстно увлекалась античностью и мифологией. Где бы она ни была, в постели, за столом, стоя, она без передышки читала книги о Древней Греции. Ночью я слышал, как она бредила богами, аргонавтами или садом Гесперид. Роковое увлечение!
С этими словами маркиз печально покачал головой. Тесть усмехнулся, и монокль его засверкал.
— Послушайте, Албан, вы ведь всегда любили верховую езду. Полагаю, что чтение не было вашим единственным занятием и что заботы о конюшне отнимали у вас немало времени.
— Моя конюшня? Она распалась в тысяча девятьсот сороковом году, во время разгрома. Клео, та несравненная кобыла, которую я любил больше всех, погибла от бомбы, когда везла телегу с бельгийскими беженцами. Когда мы после перемирия вернулись в замок, я нашел здесь одного Россиньоля, рабочего коня, который, кстати, еще жив. Да вы его, кажется, знали?
— Да, да, помню, — пробурчал барон. — Большой серый в яблоках, с какой-то нелепой шеей.
Его гнев мгновенно угас, и он задумался. Аристид, державшийся поодаль, возле орешника, по-прежнему пожирал Эрнестину Годен лихорадочным взглядом, а солнечные блики играли сквозь листву на его пестрой шерсти.
— Какая прекрасная погода! — заметил монсиньор. — В этом году природа поторопилась не по сезону.
— Природа всегда готовит нам сюрпризы, — сказал барон де Каппадос. — И все же меня не слишком удивляет тот результат, к которому привело мою дочь общение с греками. Эстелла всегда была крайне впечатлительна. Она очень живо представляет себе все, что угодно; и вот стоило ей вообразить самый невероятный миф, как он тут же стал воплощаться в ее теле. Аристид! Подойдите, поцелуйте деда!
Аристид подбежал мелкой рысцой, и барон нежно облобызал его.
— Великолепный малый! Настоящий Каппадос! Но какого черта от меня скрывали рождение этого ребенка?
Зять пустился в пространный анализ душевных переживаний, которые причинило ему и жене рождение сына. А между тем прогулка по парку продолжалась. Взрослые шли впереди, молодке люди молча следовали за ними, шагах в десяти. Под обволакивающим взглядом Аристида у крестницы епископа пылали щеки и она так сильно потела от волнения, что терпкий запах ее подмышек доходил до ноздрей кентавра. Время от времени она поворачивала голову, чтобы украдкой бросить взгляд на конское продолжение своего спутника. Он первый нарушил молчание.
— Мне бы хотелось увидеть вас голой, — сказал он.
По тому, как вздрогнула Эрнестина, он понял, что его слова неуместны, и вежливо извинился. Маркиз де Валорен и смотритель замка, поделившие между собой труды по его воспитанию, избегали касаться некоторых тем.
— Папа взялся обучать меня латыни, математике и истории Франции. Смотритель учит меня садовничать и играть на флейте. Но ни тот, ни другой не говорят мне о женщинах. Я вижу только мою мать и жену смотрителя. Я нахожу, что мама очень красива, и не стану от вас скрывать, что я с удовольствием женился бы на ней, но она мне сказала, что об этом нечего и думать. А впрочем, маминому крупу не сравниться с вашим. Я говорю это не из лести: честное слово, я не могу себе представить, чтобы какая-нибудь женщина была красивее вас. Что за круп! Ах, что за круп!
Эрнестина задыхалась, ее бросало в жар, платье прилипало к спине. Все эти комплименты, очевидно искренние, кружили ей голову, по ее телу пробегали какие-то тяжелые волны. Теперь она с удовольствием вдыхала конский запах, исходивший от Аристида.
— А я, — спросил он, — как вы меня находите?
— Вы потрясающий, — сказала она тоном, не допускавшим сомнения.
— Вы согласны выйти за меня замуж? — спросил он, снимая шляпу.
В ее глазах он прочел согласие; он привлек ее к себе и прижал к своему обнаженному торсу. В эту минуту монсиньор д'Орвиель повернул голову; увидев обнимающуюся пару и канотье кентавра, прикрывавшее мягкие полушария его крестницы, он дал волю охватившему его раздражению.
— Ваш уважаемый сын слишком много себе позволяет, — сказал он маркизу.
— Узнаю свою кровь, — ликовал барон. — Ни один Каппадос никогда не отворачивался от любви.
— Аристид, — воскликнул маркиз, — оставьте мадемуазель Годен и идите сюда.
Аристид выпустил Эрнестину, но не сразу. И сама она нисколько не спешила освободиться.
— На вашем месте, — с досадой сказал епископ, — я бы немедленно велел оскопить этого кентавра, иначе вы неприятностей не оберетесь.
— Монсиньор, — возразил маркиз, — отдаете ли вы себе отчет, что вы говорите о моем сыне как о простой кляче, и неужели вы в самом деле думаете, что на основании чисто внешних признаков можно считать конем сына мужчины и женщины?
— Но не станете же вы отрицать, что естество у него лошадиное?
Вместо ответа маркиз спросил прелата, согласен ли он с тем, что местопребывание души находится в голове, а если нет, то где же она, по его мнению, обитает? На что монсиньор резонно возразил, что, поскольку душа нематериальна, было бы неразумно назначать ей какое-то определенное место не только в теле, но и вообще в пространстве.
— Вы хотите сказать, что моя душа не находится ни во мне, ни в другом месте, что ее вообще нигде нет?
— Вопрос не в этом, — отвечал епископ, повернувшись к крестнице. — Ну, Эрнестина, что вы мне скажете?
Эрнестина Годен и ее кентавр, держась за руки и глядя друг другу в глаза, неспешно подошли к компании. Девушка не посмела ответить на вопрос крестного, но, чувствуя себя виноватой, отдернула руку, лежавшую в руке кентавра.
— Аристид, — сказал отец, — ваше поведение недостойно благовоспитанного молодого человека. Вы проявили неуважение к мадемуазель Годен и грубо оскорбили ее, как, впрочем, и монсиньора, ее крестного. Вы должны перед ними извиниться.
— Бросьте, Албан, — прошептал барон, подталкивая зятя локтем, — оставьте мальчика в покое. Молодость бывает только раз, черт возьми!
— Тра-та-та! Я хочу, чтобы он извинился.
Аристид встал прямо перед отцом и сказал очень искренно и в то же время сдержанно:
— Если я кого-нибудь оскорбил, я готов принести извинения, но по отношению к мадемуазель Годен я решительно ни в чем не могу себя упрекнуть. В ту минуту, когда вы меня окликнули, а я держал ее в объятиях и чувствовал сквозь платье ее прекрасные толстые груди, я как раз хвалил ее круп, и уверен, что этим ее ничуть не обидел: ведь он у нее вправду очень красивый. Взгляните, папа, какая замечательная пара ягодиц! Полные, круглые, упругие! Разве это не наслаждение для глаз? Я даже сказал, что мамины ягодицы, которые мне всегда нравились, далеко не такие роскошные и внушительные, как у Эрнестины. Простите меня, мама.