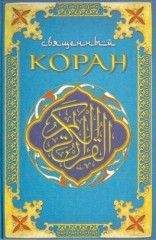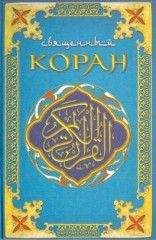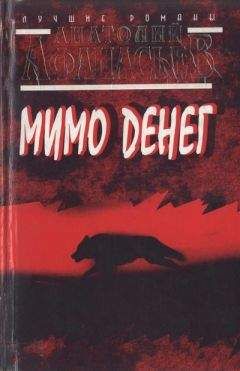Джонатан Коу - Какое надувательство!
— Нет, не весь. Но к судну были приписаны здешние курсанты, и моряки постоянно навещали детские центры и тому подобное. Когда судно затонуло, здесь все были просто убиты. Люди называли его „Блестящий Шефф“. На службе яблоку негде было упасть, сотни человек стояли на улице. Очередь тянулась отсюда до Йорк-стрит.
— Народ, наверное, очень злится на войну.
— Не все, — ответила Джоан. — Не все даже против. Но не в этом ведь дело. Даже не знаю, как сказать, но… мы как будто родных на том корабле потеряли. — Она улыбнулась. — Понимаешь, это очень теплый город. Его именно поэтому нельзя не любить.
Я уже чувствовал себя иностранцем.
* * *
Джоан жила в небольшом домике из темного кирпича в ряду таких же домиков недалеко от университета. Три спальни, две из которых она сдавала студентам, чтобы побыстрее расплатиться по закладной. Вот так сюрприз — я-то думал, мы с ней останемся наедине, а она предложила мне занять ее спальню, сама же собралась перебраться в гостиную. Допустить такого я, разумеется, не мог, поэтому передо мной замаячила перспектива провести пять ночей на кушетке в гостиной и каждое утро просыпаться от топота Джоан и ее постояльцев, которые будут ходить на кухню завтракать.
Оба постояльца оказались студентами политеха, а не университета. Грэм учился на кого-то вроде кинематографиста, а Фиби, очень робкая и неразговорчивая, изучала живопись. Вскоре стало ясно, что избегать их будет нелегко: Джоан вела хозяйство по строгому распорядку, и на кухне висел здоровенный график, в котором разноцветными чернилами была расписана очередность походов в магазин, мытья посуды и вечерних дежурств по кухне. Я почувствовал себя гостем в большом семействе, но что гораздо хуже — мой визит обсуждался ими заблаговременно. У меня сложилось ощущение, что Джоан разрекламировала меня и, распевая дифирамбы экзотическому посланнику литературного Лондона, пыталась заразить остальных неким энтузиазмом, разделять который они не особо спешили.
Все это стало ясно, когда мы вчетвером уселись ужинать. Готовила Джоан: авокадо, фаршированный морковным пюре и бурым рисом, за ним последовал пирог с ревенем. Столовая оказалась маленькой и выглядела бы вполне уютной, если бы кто-то приложил к этому хоть немного усилий; увы, нас всех заливало сияние голой лампочки, а со стен укоризненно таращились плакаты — все они принадлежали Грэму, как я впоследствии выяснил, — рекламируя политические программы и зарубежные фильмы (из которых я узнал только „Tout Va Bien“ Годара[82]). Некоторое время меня в общую беседу, можно сказать, не включали — говорили о своем: последние благотворительные проекты Джоан и грядущие годовые экзамены в колледже. Пришлось довольствоваться — если это правильное слово — полезной пищей Джоан и подливать вино в бокалы.
— Извини, Майкл, — наконец сказала Джоан. — Слушать все это тебе, наверное, неинтересно. Я вот что подумала — а не сходить ли тебе со мной завтра к моим подопечным? Поймешь, чем я занимаюсь. Может, когда и пригодится — будет о чем писать.
— Конечно, — ответил я, постаравшись проявить желание и не слишком в этом преуспев.
— Но с другой стороны, — Джоан, похоже, несколько огорошила моя прохладная реакция, — тебе ведь, наверное, нужно поработать. Мне бы не хотелось становиться между тобой и твоей Музой.
— И что это значит — новая книга? — спросил Грэм, накладывая себе добавку риса.
— Что-то вроде.
— Грэм читал твою первую, — встряла Джоан. — Правда, Грэм?
— Начал. — Парень набил полный рот и теперь запивал рис вином. — Хотя дальше двух первых глав не продвинулся.
— Объяснимо, — сказал я, однако гордость не позволила мне на этом успокоиться. — Но могу я спросить почему?
— Ну, во-первых, если честно, я никак не возьму в толк, зачем люди теперь вообще пишут романы. Ясно, что это все совершенно бессмысленно с тех пор, как изобрели кинематограф. Конечно, некоторые до сих пор делают что-то интересное с формой — например, Роб-Грийе и вся эта тусовка „нового романа“[83],— но любой серьезный современный художник, использующий повествование, должен работать в кино. Это мое возражение общего характера. А если конкретнее, то проблема английского романа в том, что у нас нет традиции политической ангажированности. То есть, насколько я вижу, все валяют дурака в рамках буржуазной морали, и только. Нет радикализма. У меня сейчас есть время читать только одного-двух романистов в этой стране. И боюсь, вы к их числу не относитесь.
Повисла потрясенная пауза. Его монолог шокировал, по всей видимости, только Джоан — Фиби, разумеется, молчала. Что до меня, то в студенчестве я слыхал столько подобных манифестов, что этот меня нисколько не смутил.
— И кто же это? — спросил я.
— Ну, например…
Грэм назвал имя, и я улыбнулся: улыбка получилась довольная и весьма двусмысленная, поскольку, с одной стороны, услышать это имя я и рассчитывал. Мяч снова на моем корте — то был писатель, чья последняя книга попала ко мне на рецензию. А с другой — я подобрал слово. Я и раньше не сомневался, что оно существует, но теперь оно совпало с предметом описания.
Должен объяснить: то был писатель лет на десять старше меня, и три его тоненьких романа смехотворно и незаслуженно превозносила вся национальная пресса. Он заставлял своих персонажей разговаривать на грубо транскрибированных диалектах и жить в условиях неубедительного убожества, и его превозносили как социального реалиста; иногда он проделывал какие-то элементарные фокусы с повествованием, пытаясь бледно имитировать Стерна и Дидро, и его превозносили как экспериментального новатора; в его привычку вошло регулярно писать письма в газеты и критиковать политику правительства в выражениях, мне лично всегда казавшихся признаками робкой левизны, и потому его превозносили как политического радикала. Но больше всего раздражала его репутация юмориста. Ему то и дело приписывали игривую иронию и сатирическую легкость мазка, которые, на мой взгляд, в его работах и не ночевали; скорее для его книг были характерны неуклюжий сарказм и жалкие попытки подпихнуть читателя под локоть шутками, отмеченными верстовыми столбами. Именно для этого аспекта его стиля я приберег свой финальный выплеск презрения. „Уже стало общим местом, — писал я, — превозносить мистера______________за то, как умело он сочетает остроумие и политическую активность; дело дошло до того, что в его лице предполагают увидеть иронического моралиста, достойного наших беспощадных времен. Нам, в конце концов, до смерти нужны романы, отражающие понимание идеологического пиратства, недавно совершившегося у нас в стране. В них мы должны видеть последствия этого акта терроризма для простого человека, а реакцию на этот акт — не только в скорби и гневе, но и в безумном хохоте неверия. Многим, вероятно, кажется, что дай лишь срок, и __________напишет именно такой роман, но вашего рецензента это не убеждает. Как хорошо бы автор ни был подготовлен к выполнению сей задачи, в конечном итоге, подозреваю я, ему просто недостает необходимой…“
И вот тут изобретательность покинула меня. Чего же именно ему недостает? Слово, которое я искал, должно описывать его стиль, иметь отношение к тональности. Дело не в том, что ему не хватает сострадания, ума, технических навыков или амбиций, — недостает ему… какого-то инстинкта для того, чтобы объединить все это вместе споро и умело. Должна присутствовать некая дерзость — но с элементом скромности, ведь, каковы бы ни были его хорошие качества, поистине спонтанными и естественными они покажутся только в том случае, если в работах не будет чувствоваться никакого эгоизма.
Слово — вот оно, нас разделяет лишь несколько дюймов. Ему недостает необходимой блистательности, необходимой дерзости, необходимого…
…задора.
Да, вот оно. Задор. Точно. Слово казалось уже настолько очевидным, что я не понимал, почему потребовалось так много времени, чтобы его вспомнить. И меня сразу же накрыло чуть ли не мистической волной правоты: я не только был уверен в правильной концовке рецензии, но какой-то телепатией ощущал, что слово это определяет то единственное качество, которым ему самому в глубине души хотелось бы обладать — так, чтобы это признавали все. Я вторгся, проник, проскользнул к нему внутрь: когда рецензия выйдет в пятничном номере, он будет задет, и рана будет глубока. Мне предстало видение просто галлюциногенной силы, отчасти порожденное воображением, отчасти — смутным воспоминанием о каком-то безымянном черно-белом, возможно американском, фильме: человек в сутолоке продутого ветрами города ранним утром покупает в киоске на углу газету, идет с нею в кофейню и лихорадочно листает, ища нужную страницу; ест у стойки сэндвич, и вот движения его челюстей замедляются, затем он в отвращении комкает газету, швыряет ее в урну и выскакивает из кофейни; лицо его яростно заострилось, на нем читаются злость и разочарование. Я знал — едва вспомнив слово, я точно знал: такая сцена, карикатурно преувеличенная, разыграется в пятницу утром, когда он выйдет за газетой в киоск или поднимет ее с коврика под дверью или когда ему позвонит агент и сообщит о моем сокрушительном выступлении. Теперь мне стыдно вспоминать, как счастлив я был, сознавая все это, или, точнее, насколько я был готов принять за счастье отравленный поток удовлетворения, захлестнувший меня.