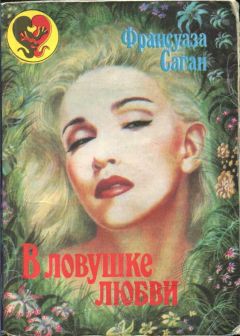Франсуаза Саган - Женщина в гриме
Чуть позже она успокоилась и стала выуживать из своей памяти эту разящую, громоподобную фразу – фразу, которая пряталась то в одном уголке памяти, то в другом и никак не давалась, наподобие мухи в стакане, фразу, которую произнес Эрик: «В претенциозно-интеллектуальном стиле… это одна из самых назойливых поблядушек…» и т. д. Нет, не слово «поблядушка» резануло ее по живому – вовсе нет, – а в первую очередь три других слова, произнесенных Эриком Летюийе, главным редактором «Форума». Эти три слова, помимо всяческих сентиментальных соображений (это она бы как-нибудь стерпела), повергли ее в отчаяние униженных и оскорбленных, которое – о чем можно прочесть у Стендаля, Достоевского, Пруста и у других авторов – может стать одним из самых мучительных состояний. По правде говоря, Ольга Ламуру никогда не читала ни Стендаля, ни Достоевского, ни Пруста, ни множества других, она читала только то, что пишут о них, да и то не в «Нувель литерер», а в «Пари-матч» и «Жур де Франс» – по случаю того или иного юбилея. К этим драгоценным сведениям она добавляла замечания личного характера, исходящие от Мишлины, ее интеллектуальной подруги, а всерьез она никогда не читала ничего. И вот, не опираясь ни на какие авторитеты, Ольга Ламуру, а точнее, Марселина Фавро, родившаяся в городке Салон-де-Прованс от нежной матери-галантерейщицы (причем род ее занятий помешал ее дочери оценить ее душевные свойства), принялась, всхлипывая, заламывать руки и на протяжении целого часа тщетно пыталась успокоить уязвленную гордость. Ольга совершенно не умела смотреть на себя со стороны; она всегда видела себя в стилизованно-ложном свете, причем это всегда была некая триумфальная версия, которую она нашла в себе смелость сотворить вопреки всем доказательствам противного, предоставляемым ей самой жизнью. И, надо сказать, наряду с тщеславием, тут проявилось лучшее, что было в ней: смелость, сопряженная с упорством, детская наивность, правда, сочетающаяся с множеством нелепых иллюзий, отказ от тусклого прозябания (или того, что она считала таковым). Сюда следует добавить ее усилия, стоившие ей бессонных ночей, приобрести хотя бы «видимость» культуры, более широкой, чем та, что была вынесена из Салонского лицея, ее уверенность в правильности собственной жизни, в своей молодости, в своей красоте, в своей удаче, и все это Эрик только что растоптал и смешал с грязью. И потому ее безоговорочная решимость мстить вполне соответствовала как ее лучшим качествам, так и ее недостаткам. Быстрота, с которой она принялась, невзирая на свои переживания, изыскивать орудие борьбы, средства, чтобы заставить Эрика поплатиться, была в определенном смысле достойна уважения. При этом уже была создана некая заведомо лживая версия, предназначенная для обеих закадычных подруг, Мишлины и Фернанды, и сформулированная следующим образом: «Я решила, что следует порвать с Эриком Летюийе. Он должен узнать, что такое нападать в присутствии Ольги Ламуру, будущей звезды, на беззащитную молодую женщину, свою жену, юную и богатую Клариссу Барон из семьи владельцев сталелитейного производства».
Замыслив месть, Ольга провела ладонями по щекам сверху вниз, утирая слезы, и слегка удивилась тому, что они не соленые. С десятилетнего возраста научившись симулировать плач, она полагала, что на настоящие слезы более не способна. Сейчас же слезы были самыми что ни на есть настоящими, лились они потоком, выкатывались из-под век, а плечи непроизвольно содрогались: это была какая-то незнакомая ей женщина – точнее даже ребенок – в отчаянии, некая «другая», плачущая вместо нее. Потрясенная, а скорее, ошеломленная способностью «другой» страдать, Ольга привычно попыталась придать причинам страданий возвышенный характер. Мало-помалу она принялась оплакивать несовершенство человеческой натуры, бессердечие отдельных личностей, которым следовало бы, наоборот, служить опорой народу, и вести этот великодушный, добрый и доверчивый народ по правильному пути. Она оплакивала наивность бедных читателей «Форума», совсем позабыв, что их контингент состоял из интеллектуалов левого толка (или правого толка), из крупных или мелких буржуа, иными словами, из людей обеспеченных, вполне способных приобрести журнал и с его помощью заниматься судьбами этого пресловутого народа, народа, о котором никто, за исключением официальных фигляров, никогда не вспоминал и не имел дела; «этого народа», единственным отличительным признаком которого было то, что сам он никогда не пользовался этим термином.
Как бы то ни было, когда влюбленный и пьяный от счастья Жюльен, широким шагом двигавшийся по палубе – размашистая поступь, резкие повороты, прыжки через ступеньки, – когда Жюльен наткнулся на нее, она уже оплакивала судьбы человечества, роняя слезы в синие волны, а вцепившись в него, оросила слезами его куртку.
«Почему я не остановила выбор на нем?» – спрашивала себя Ольга. Да, конечно, он не производил впечатления серьезного человека, да, конечно, он не представлял собой ничего особенного, и, да, конечно, он до сих пор не заинтересовался единственным, что достойно внимания на этом корабле, иными словами, ею, Ольгой… «Но он, по крайней мере, – заверяла себя Марселина Фавро в наивном отчаянии, – он, по крайней мере, обладает светлой головой! Да, конечно, он влюблен в Клариссу… в красавицу Клариссу… когда-то гротескную Клариссу… но это неожиданное соперничество не помешает устройству моих личных дел», – подумала она и тут вдруг сообразила, что благодаря Жюльену она от отчаяния и размышлений о собственном будущем перешла к мыслям о «личных делах». Возможно, на эти мысли ее навело лицо находящегося рядом мужчины, с его густыми бровями, сверкающими белыми зубами, с полными губами, красивыми карими глазами и большим, чуть искривленным носом. У него длинные ресницы, как у женщины, впервые заметила она, ресницы, неожиданные для человека столь мужественного и столь явно гордящегося этим… В конце концов, вполне можно ревновать к этому Жюльену Пейра… и красавцу Эрику следовало бы задуматься, действительно ли он лучше всех, а уж если она решится вызвать из глубин памяти неожиданную сцену, имевшую место сегодня днем… Ибо теперь, когда она уже не любила Эрика – или, точнее, перестала убеждать себя, что любит, – он вдруг показался ей гораздо менее привлекательным. И, говоря откровенно, эта эскапада на Капри была абсолютно неинтересной в определенном плане, а от Жюльена Пейра у нее в этом плане, без сомнения, останутся наилучшие воспоминания…
Ольга была фригидной, но заменила это грустное определение на гораздо более привлекательное: она называла себя «холодной» с тем, чтобы никто не винил ее за то, какая она есть, а надеялся ее изменить. Эрик, ревнующий к Пейра… А почему бы и нет? Слезы ее, поток которых, как надеялся Жюльен, иссяк, вновь полились с удвоенной силой, но теперь уже по ее собственной воле. Опыт подсказывал ей, что слезы порой оказывают на мужчин самое неожиданное действие.