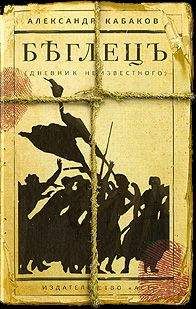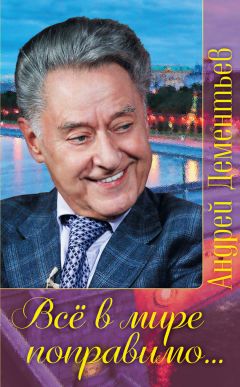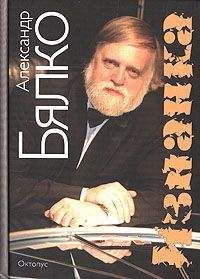Александр Кабаков - Все поправимо: хроники частной жизни
Сколько прошло времени, они не знали. Он еле встал, прошлепал к столу, где оставил свой золоченый плоский «Полет», купленный наконец в прошлом месяце дефицит, — он успел снять часы, чтобы не оцарапать ее пряжкой ремешка. Оказалось, что время идет к ужину. Нина надела халат, пошла на кухню готовить, спустя несколько минут вышел в большую комнату и он. Мать сидела у окна, за которым было черное небо, чуть отсвечивающее золотом от столпившихся у нижнего края рамы городских огней, и смотрела в темноту. Когда он вышел, мать не обернулась.
— Пойдем ужинать, мам, — сказал он.
Мать молча встала и, перебирая руками по спинкам стульев и поверхности стола, потом нащупав в воздухе край приоткрытой двери, двинулась на кухню. Он взял ее за руку и повел.
— Ты рискуешь, — сказала мать, — молодость пройдет, а обида у Нины останется. Ты рискуешь сломать жизнь себе и ей. Ради чего?
Он промолчал.
Ужинали гречневой кашей, гречку Нина случайно купила — набежала, когда еще не было очереди, и стала первой — в каком-то малоизвестном продуктовом возле своего института, и готовыми котлетами по двенадцать копеек, микояновскими. А любимую матерью свежую докторскую колбасу теперь не всегда можно было застать даже в Елисеевском. Потом пили чай с вареной сгущенкой, пять банок сгущенки принес недавно он, а ему помог достать один парень, работающий в «Диете» на Горького, которому он наконец принес давно этим пижонистым товароведом заказанную настоящую американскую махровую красную рубашку, такие теперь назывались батниками, а махровый батник был пределом желаний любого модника, даже и товароведа.
Говорили о нейтральном — о Кубе, о Кеннеди и его жене, о том, что никто почему-то не испугался войны, а ведь могло начаться, о Хрущеве, который, конечно, обделался, но молодец, что обделался вовремя. Мать понижала голос и то и дело смотрела невидящими глазами на дверь, но он успокаивал — теперь и не такое говорят, да и нет же ведь никого в доме, а телефон далеко.
После ужина включили телевизор, «Рекорд» пошел голубыми волнами, потом появилась Гелена Великанова, но звука не было, потом появился и звук, но Великанову слушать осталась только мать, выключать телевизор она умела сама, на ощупь, а они снова пошли к себе, в дядипетину комнату, и не спали еще полночи, потом заснули, потом проснулись и снова не спали часа полтора, и у него наконец не стало сил, и окончательно проснулись они уже в одиннадцатом часу утра.
Глава четвертая. Одесса
С утра ребята приходили завтракать, приносили с собой рыночный творог и свежий хлеб, купленный по дороге в ларьке.
Завтракали в саду. Любовь Соломоновна, знакомая Бурлаковых, у которой они с Ниной поселились — несмотря на возражения и даже обиду Нининой матери, они настояли на своем, жить в бурлаковской двухкомнатной квартире, все время на глазах у родителей и Нининой младшей сестры Любки, вредной и надоедливой девчонки, не хотели, — ничего не имела против почти постоянного присутствия на участке большой молодой компании. А вечерами, если у ребят не было настроения идти гулять и располагались во дворе, она даже присаживалась вместе со всеми за длинный дощатый стол под сливой, пила сладкую «Лидию» и, когда начинали петь под киреевскую гитару, подтягивала то, что знала, или с удовольствием слушала.
После завтрака сразу шли на пляж. Белый ходил в американских военных шортах цвета хаки, вызывая сильное неодобрение местных и большой интерес располагавшейся неподалеку на пляже компании молодых грузин. Киреев, только минувшей зимой освоивший три аккорда, всюду таскал с собой гитару. Витька, на зависть грузин, даже в жару ходивший в отдающей голубым белой нейлоновой французской рубашке и спущенных низко на бедра серо-стальных дакроновых брюках — грузины сами так ходили, но откуда у москвича хорошие вещи, а? — шел, не выпуская из зубов шикарной английской трубки, которую стал курить недавно, по джазовой моде, хотя к джазу был равнодушен. А Нина не вылезала из мужской рубашки, связанной на животе по-кубински узлом, и коротких, узеньких женских — с застежкой в левом кармане — джинсов, которые он ей купил за совершенно бешеные деньги, за тридцать пять рублей, перед самой поездкой. Продавала ненадеванными одна совершенно обнищавшая в общежитии на Ленгорах венесуэльская девушка — привезла, да как закрутилась между дешевым крымским портвейном и страстью к красавцу поляку, так и очнулась в ожидании стипендии без копейки… А сам он носил сильно затертые и лоснившиеся спереди на ляжках, уже почти порвавшиеся в межножье Super Rifle с молниями на задних карманах и махровую желтую рубаху с короткими рукавами и короткой планочкой на груди, купленную уже здесь, на толчке.
На пляже располагались у большого камня, ели длинный зеленый виноград «пальчики», пили сладкое вино «Гратиешты», вяло играли в покер. Загорели все уже до синеватого отлива, только он немного отставал, потому что сгорел в первый же день, потом мазался простоквашей, страдал ночами и почти неделю сидел на пляже, укрыв плечи полотенцем. Белый и Витька выпендривались в нырянии с камней и плавании за горизонт перед несколькими местными девицами, сбегавшими на пляж с учительской практики, которую они проходили вожатыми в соседнем пионерлагере, и перед почти не умевшими плавать волосатыми грузинами. Пели Визбора, Окуджаву и несколько блатных песен. Грузины и девушки подбирались поближе, слушали восхищенно, Киреев, довольно прилично, с хорошим, не чрезмерным надрывом солировавший в «Смоленской дороге», сиял от внимания всеми веснушками и красным даже сквозь загар носом. Иногда на пляже их находила Любка, гордо садилась рядом с Ниной, как бы член компании.
Обедали в шашлычной в парке, один короткий деревянный шампур шашлыка стоил там сорок копеек, порция плова — двадцать шесть, стакан разливного сухого — двадцать. Иногда к обеду брали в магазине бутылку самого дешевого коньяка за четыре двенадцать, три звездочки местного разлива, быстро выпивали компот, Нина сбрасывала раскисшие сухофрукты из всех стаканов в стоявший у входа на веранду мусорный бак, а Витька под столом виртуозно, поровну до миллиметра, наполнял эти граненые стаканы едко желтой жидкостью, слегка отдававшей аптекой.
После обеда на пляж, как правило, не возвращались — солнце шпарило слишком мощно. Садились в открытый — с дачными перильцами вместо стен — трамвай и ехали с шестнадцатой станции в город гулять. На Дерибасовской пили турецкий кофе в микроскопическом фанерном буфетике, где над противнями с песком и медными джезвами медленно хлопотал бритоголовый огромный абхазец. Он уже знал компанию и приветствовал ее кивком. Заметили модных москвичей и местные молодые люди, толпившиеся с чашечками вокруг фанерной будки, Витька и Белый уже свели с некоторыми из них небесполезные знакомства — узнали, когда точно приходит флотилия «Слава», до какого упора есть смысл торговаться на толчке и что у кого там можно найти.