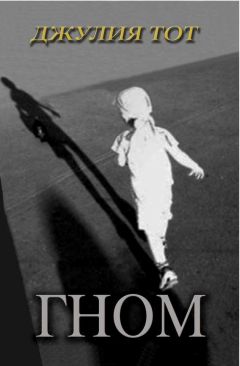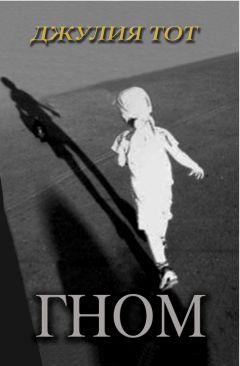Виктор Свен - Моль
Мысль о предательстве этого друга, его доносе, Костя Туровец не довел до конца: в кабинет вошел секретарь Карпенко.
— С тобой, Туровец, будет серьезный разговор, — начал секретарь, громыхнув стулом. — В присутствии уполномоченного, который тобой весьма интересуется.
— О чем разговор? — спросил Костя Туровец.
— Да о том, что ты затеял опасную дружбу с кулаками. Ну, вот, с Семеном Быковым.
— Видите ли, товарищ Карпенко…
— Отвечай прямо: да или нет? — крикнул секретарь.
— Дружба… это не то слово. Правильнее сказать, это…
— Брось выкручиваться, — вмешался уполномоченный. — Я тебе прочитаю донесение, записку, в которой говорится о твоих беседах с Быковым.
Уполномоченный вынул из портфеля небольшой лист бумаги и принялся читать «записку», иногда насмешливо взглядывая на Костю.
— Ну, как? — спросил уполномоченный. — Соответствует? А ты знаешь, что за такое соответствие причитается?
Косте Туровцу показалось, что он очутился в густом тумане. Туман мешал дышать.
— Не понимаю, — с трудом произнес он. — Как-то трудно понять. Одно понимаю, что это подлая информация.
— Вон оно что! — как будто с радостью воскликнул уполномоченный. — По-твоему — подлая информация? А по-нашему — честный комсомолец выполнил свой долг. Ты это называешь подлой информацией? Теперь мы знаем, кто ты такой есть! И выводы будут сделаны. А чтоб другим неповадно было — о тебе пойдет разговор на закрытом комсомольском собрании. Активисты вынесут решение, а потом мы решим, как поступить с классово-чуждым элементом, пробравшимся в комсомол.
— Совершенно правильно, — подтвердил Карпенко. — Завтра же и соберем комсомольский актив на закрытое обсуждение «персонального дела».
— Слышишь? — спросил уполномоченный Костю Туровца. — А теперь можешь идти.
Уже в полночь вернулся в общежитие Костя Туровец и с удивлением увидел, что комсомольцы не спали. Никто ни о чем его не спросил, но было ясно, что они сидели в ожидании и, судя по густому табачному дыму, о чем-то горячо толковали. Когда же Костя вошел, все замолчали.
— Ребята! — крикнул кто-то. — Откройте дверь! От дыма не передохнуть.
Желающих открыть дверь не оказалось и все принялись укладываться, кто на койках, а кто и на нарах.
«Они предполагали, — подумал Костя Туровец, — что я сюда больше не вернусь».
От этой мысли стало холодно. Не вообще холодно, а где-то около сердца стало зябко.
Прислушиваясь к тому, что творится у него внутри, Костя забыл и где он и что его мучит. Нелепо схватившись левой рукой за доску нар, он опустил голову и глубоко задумался. Потом прислонился лицом к доске и может быть потому, что от нее струился еле уловимый и ласковый запах сосны, он вспомнил о родном отце, об учителе Петре Петровиче, о полесской деревушке среди старого соснового леса. В тот самый момент, когда Косте Туровцу показалось, что над лесом и деревушкой сгустилось темное ночное небо, с угловых нар раздался крик:
— Чего задумался? Туши свет!
Всё и сразу исчезло. Доска, которая только что дышала ароматом древнего леса, оказалась покрытой грязью. Никакого неба не было.
— Туши свет! — закричали с разных сторон, и Костя Туровец, тяжело шагая, подошел к выключателю.
Наступившая темная тишина наполнилась притаившейся ненавистью.
«Почему?» — спрашивал себя Костя Туровец, взбираясь на нары… «Почему?» — звучало справа и слева, сверху и снизу… «Почему?» — хватало за глотку, и чтобы не задохнуться под грузом этого вопроса, он ворочался с боку на бок, прятал голову под подушку и прижимал пальцы к глазам.
Ничто не помогало. Сна не было. И чем больше внушал себе Костя Туровец, что надо заснуть, тем ярче восстанавливались озлобленные лица уполномоченного и секретаря Карпенко и лежавшая перед ними папка, на которой синим карандашом было написано: «Персональное дело».
Только теперь, лежа на нарах, он понял, что «персональное дело» — это начало какой-то другой, особой жизни, в которой не будет того, о чем так ярко и убедительно говорил когда-то директор средней школы Петр Петрович.
Попытка утешить себя, что он еще молод, что впереди у него жизнь — оборвалась жестоким вопросом: «Какая жизнь?»
Да, ему всего лишь девятнадцать лет. Еще так недавно отец называл его даже не по имени, а просто: «хлопчик» или «сынок». Это уже в прошлом. В прошлом и девятнадцать лет, прожитых им в мире, на который он смотрел с удивлением и которого не понимал.
Сегодня ему те же девятнадцать лет. Что изменилось? Многое. Теперь, после «персонального дела», Костя Туровец ощутил какое-то психическое перерождение. Раньше один единственный вопрос, что мучил его, сводился к попытке разгадать смысл происходящего. Сейчас этот прежний и единственный вопрос распался на какие-то мелкие части, некие «подвопросы», вдруг превратившиеся в настоятельную необходимость создать цельную и очень стройную систему для понимания не только себя, но и других, а, затем, и всего того, что составляет жизнь, подчиненную кем-то выдуманным планам, заполненную кем-то нарисованными плакатами и лозунгами, бессмысленными статьями, тоже кем-то написанными и требующими «жертвенности и преданности» и зовущими к беспощадной расправе с врагами.
Костя Туровец ворочался на своих нарах и заводской гудок встретил с открытыми глазами. Второй гудок заставил его подумать о том, что ночь он провел без сна. Как бы подтверждая это, к вискам начала приливать постепенно усиливающаяся и, наконец, ставшая нестерпимой боль.
До смены оставалось около получаса, и это время, обычно, заполнялось суетней, шутками и легким переругиванием. На этот раз общежитие молчало.
Костя Туровец посмотрел по сторонам и перехватив косяще-злые взгляды комсомольцев, вышел из комнаты.
Даже не зайдя в столовую, он направился на строительный участок и до пяти часов вечера работал с остервенением, со страстью, с искренним и непонятным желанием сделать очень и очень много.
Потом, уже возвращаясь домой после смены, он попробовал было разобраться, ради чего он так старался. Что не для себя — ему стало ясно. Тогда для чего?
Костя посмотрел на свои молодые и крепкие руки и тут же представил себе десятки тысяч тощих кулацких рук, с таким трудом ковырявших землю лопатами.
На дверях общежития он увидел объявление:
Сегодня, в клубе строителей,
в 8 часов вечера,
закрытое комсомольское
собрание. На повестке дня:
«Персональное дело К. Туровца».
Внизу объявления, крупными буквами, было выведено: «ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА».
«Для меня не обязательна, — подумал он, войдя в комнату. — Так что, может быть, и не пойти?»
В комнате были те семь комсомольцев, которых он совсем недавно считал если не друзьями, то товарищами. С ними он уже больше года работал, иногда по двенадцати часов в сутки, отбывал «почетную сталинскую вахту», чтобы после нее, в изнеможении, повалиться без сил на грязные нары.
Он всегда был с ними. Он такой же, как они, успокаивал себя Костя, и тут же почувствовал себя стоящим перед стеной. Стена окончательно и навсегда отделила его от них.
Он молча, даже не сняв грязных сапог, взобрался на нары и лег. И опять стал думать о том, что на это собрание не пойдет. Зачем идти? Но как только принял это решение — сам себе сказал, что пойдет обязательно! Он должен быть там, на собрании, доказать всем, что они станут разбирать не его «персональное дело», а участвовать в гнусном балагане, играя роль жалких статистов.
«Персонального дела» нет, убеждал себя Костя Туровец, и вдруг с необычайной яркостью увидел всю свою родную землю с Москвой, с городом Петра, древним Суздалем и с полесской деревушкой, в одной из изб которой девятнадцать лет назад родился он — Костя Туровец.