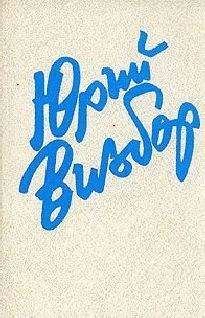Дмитрий Силкан - Равноденствия. Новая мистическая волна
Значит, он снова здесь, этот кто-то, кто охотится за мной, и он тоже смыкает вокруг меня свою спираль. Но я так просто не дамся. С этого времени я стал носить нож. А убийца продолжал убивать. Количество трупов увеличивалось, а милиция не находила никаких улик — убийца не оставлял следов, кроме кровавых символов на стенах. У меня появилось ощущение, что скоро мы встретимся и посмотрим друг другу в глаза. Я жаждал встречи с убийцей и каждый вечер совершал долгие прогулки по безлюдным улицам в надежде застать его на месте преступления. Но безрезультатно. Редкие прохожие, которых я встречал, не могли быть им — они сами шарахались в стороны от меня. А если бы они знали, что у меня в кармане нож…
В этот раз коридор изгибался ещё круче, я чувствовал, что приближаюсь к центру спирали. Музыка оглушала, казалось, я растворяюсь в ней. Сердце билось в такт этому ритму, и шаг за шагом я приближался к центру. И вдруг я увидел… себя. В огромном чёрном зеркале я видел своё отражение. Это был я, но какой-то незнакомый я. Это было моё лицо, но глаза были холодны и жестоки, а губы кривились в усмешке Мефистофеля. И мои руки были в крови. И тот я, что в зеркале, поднял свою окровавленную руку и стал писать на стекле. Буквы сочились кровью и складывались в слово: «С возвращением!»
Я в ужасе проснулся и сунул руку под подушку, где лежал нож. Его там не было. Неужели убийца здесь? Я заметил полоску света под дверью в другую комнату. Я тихо слез с кровати и сунул руку под неё — там внизу лежал топор. Я его перехитрил. Сейчас я развалю голову этого ублюдка пополам. Я вскочил и распахнул дверь ударом ноги, занеся топор для удара. То, что я увидел, повергло меня в шок. На полу лежало окровавленное мёртвое тело, рядом с ним лежал мой нож, весь в крови. Вокруг тела горели чёрные свечи, а у головы трупа стояло большое зеркало, и на нём было что-то написано. Все стены были разрисованы кровью всё теми же странными знаками. Кровью был залит пол, и в воздухе витал её запах. Несколько минут я не мог ничего делать, потом немного пришёл в себя. Водопад мыслей обрушился на меня. «Труп… убийца… у меня в доме… обвинят меня… а если я…» Надо что-то делать, но прежде всего я решил прочитать, что было написано на зеркале.
Я посмотрел в зеркало — прямо поперёк моего лица шло наискось только одно слово. Буквы сочились кровью: «С возвращением». Вдруг моё отражение исчезло — я видел всё: комнату, труп за моей спиной, свечи, но не видел себя. Я оглянулся. Тени тоже не было. Я опять посмотрел в зеркало. Теперь я увидел себя, но больше не было ничего — ни комнаты, ни свечей, ни крови. Зеркало тоже куда-то исчезло. И я почувствовал, что куда-то падаю. И я всё вспомнил…
Я вспомнил рты, искажённые в агонии и молящие о пощаде, глаза, наполненные ужасом и болью, пламя чёрных свечей в темноте, значение таинственных знаков на стене — я вспомнил то, что так хотел вспомнить — недостающую часть моего прошлого. И вместе с этим воспоминанием меня заполнил патологический мрачный восторг одиночества и опьянение падением в Бездну. Я падал в Никуда и видел вокруг себя окровавленные трупы. Заведённая пружина лопнула…
Спираль кончилась, и неистовая боль взорвалась внутри меня, погрузив в Багровое Блаженство. Ледяной Ветер нёс меня в равнодушной (и величественной в своём равнодушии) Пустоте. И только торжественная Музыка моих снов заполняла бесконечное пространство. И я сливался с этой Музыкой, растворялся в ней, исчезал. И я не мог желать лучшего…
Наталья Силкан-Буттхоф
Илия
— Илия, где ты был?
— У Бога.
— Так и у Бога?..! — Прямо так. Налегке.
— И как там, у Бога?
— А-а-а. Бога нет.
— ???
— Пепел да Ангельские баланды остались. Всё спалила война.
— Разве ж Там… воюют?
— Ещё как!.. Ангелы бьют друг друга насмерть, прямо в наблещённые крыла. А кровь у них черным-черна, как снег Апокалипсиса.
— Вот как?.. Про Апокалипсис слыхали. А снег… разве бывает чёрен?..
— Там, откуда Я взошёл к вам, только копоть: и Днём, и Ночами, как летом, так и лютою зимой, А вообще, Там всегда зима… и Господь тоже казал; мне свой Лик, из сажи. Он — Самый Главный… И потому никто Его не слушает. Даже Он сам.
— Значится, говоришь, воюют на небе?
— Да, всё бесконечное время!!.
— Отчего же сражаются, не поделили что?..
— Там делить нечего. Кроме самих, себя… Вот затем и бьются. Перья с Духом борются не напожизнь обрыглую регулярностью, а за Таинство Смерти. Святыы-е…
— Илия, на тебе портки-то отменные.
— А то как же иначе… Они у меня — Вышним лужёные. Яко броня, да из дятловых клювов, в цвет Войны — красные, Его, Божий Цвет.
— Ды чего ты!.. Аль Всесведущий войною прельщён?..
— Он прельститься ничем не может, потому как Души у Него нет. А себя-то Он и не ведает, вот и ведёт с Самим Собою сражение. Что выиграет, то и проиграет. Там оных понятий нету. Лишь бы Конец был… Вот, Недосягаемо, оттого — Интересно. Играют они Там. Играют… И когда воюют, то… и любят…
— Илия…
— Да Спаси вас Господь!..
— От чего это?..
— Слабые вы силой Неведомой, а ведь всех вас спасать надобно. Что внизу, то и наверху. Спаси вас, Господи, от самих себя. Спаси…
Играючи…
Мусорщица
«…Едит твою!..» — вытаращилась пучеглазая Нюрка на умощённую диковинами вещь…
…Нюрка была женщиной в самом соку, коханой дочкой трактористки и фельдшера, и на работу свою ходила как на праздник.
«Скр-рр-иии-п!!!» — двор оглашался пронзительным и душераздирающим скрежетом метлы, от которого удирали врассыпную драные кошки да кровь загустевала в жилах. Нюра, втиснув поистёртую ширококостность в исподнее батника (чёрное, как печной грач в предчувствии обновы) устремлённо вышагивала о дворницкой, с энтузиазмом двигая за «строевой» мусорную тележку.
А по весне, что приходила к ней не по сезону, но по душевному востребованию, надевала Нюрка напараденную от чугунного утюга юбку, а слонопотамовы ноги отбивали в запёкшийся несвободой асфальт патриотичный марш любви. Под бабьим знаменем червонной косынки, повязавшей за уши Нюркин норов, глаза слонялись посюсторонним энтузиазмом, мечтательной эйфорией преданности чему-то высшему…
«Делу комсомолки…» — твердо заявляла Нюра. Впрочем, какому именно «делу», простоволосая дева и сама толком-то не знала, токмо уверенно чеканила «труды своя», втихую о чём-то себе надумывая…
Отец Архипыч, которого деревенские виночерпии уважительно называли «наш вымпел» (потому как «вымпить» тот мог в любое время суток без отговоров), бывало, хвалился соседям: «Эх, работяща Нюрка, да к тому ж — девка значительна… Ей-ей! Не своя бы, так сам захомутал чертовку!»
А под «значительностью» понимал Архипыч ту самую Нюрину молчаливость, что казалась ему нежной до невозможности, да глаза рыбьи, прозрачные к Миру сему. Местные же бобыли капали слюной на увесистые оконечные прелести, в капроновых чулках напоминающие сочную «докторскую», аппетитную до розовости.
Да Нюрке-то фиолетово. К родне она наезжала лишь изредка, ведь интересы-то её были иными. А кроме того, разные они все — любови-то, поди разберись… Кому пернатость внутреннюю подавай, кому телеса колбасные, а она, может, важная птица… И белая-белая… Как полярная ночь…
…Вообще, мир целиком казался девице близко-деревенским, а человеки в нём — близко-незатейливыми односельчанами, душевными до удушливости. Оттого и не желалось Нюре за моря-океаны: «На что глядеть-то?.. Ежели везде — Единственна Деревня. Разве только дворницкая — то иной свет. Вершины непокорённые».
…Пудовой птицей топтала она мусорную площадку сталинской высотки, а засаленный халат порхал по ветру грёз благородно блуждающей тогою. С ним в унисон выстреливал к Небу залп ошалелых воробьёв, разбивающихся о непонимание фасадной массивности, осыпающейся во прахе времён.
Тешилась Нюра летучими попрошайками и дозволяла им подкармливаться съестными отбросами свального загончика. Бывало, и пригрозит метлой окрестным пацанам:
— У-уу, сорванцы! Я вам рогатки-то пообломаю, божью тварь не троньте!..
А в Бога она верила. Тайно… Стояла воскресно в сокольническом храме со свечкой в потеющих неопределённостями руках: «О чём испросить?..»
Так и уходила пустой, крестясь да молча… И отчего-то печально смотрели ей вслед намоленные иконы…
…Бабка Меланья вонюче зевнула беззубостью. «Опять Боженька день творит. Швятой Он, вот-те крест швятой! Пошто штолько днёв-то? Шделал один, и будет ужо. Тут ш вещери так намаяшши, шпать бы-ыы… Ан нет.» — И она опасливо покосилась на запертую кладовую: вдруг войдёт кто через доски эти прогнившие, такой же плесенный и невидимый? — «Швещи в коробочек надобно, как покойников, а инаще пошто по им беждомные-то огарки штавить? Непорядок это! Не по-божешки, — озабоченно запричитала бабка и, довольно улыбнувшись собственной прозорливости, продолжала разворачивать свою фантазию: следить надлежит. Вот щас наштанет шупротивный, Он меня вожьми и вопрошай гласом громовым: „Ну, Меланья, жа дело ты ёдывала хлеб швой, али не жа дело? Ответштвуй!“ А я Ёму: „Не прогневай, Благодетяль! Вшо по уму, по чину. Швешки: бошок — к бошку, робрышко — к робрышку в коробошке. Да не по-проштому, лешенкой к небешам“.