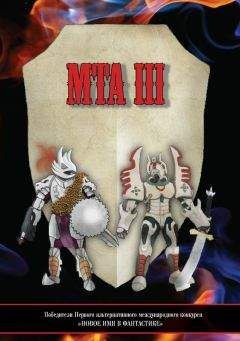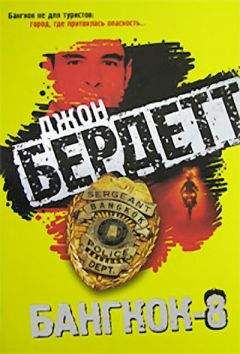Татьяна Мудрая - Геи и гейши
— В таких играх сражаются, убивают и гибнут сами, не зная, когда взаправду придет их час, — громко, будто опять во сне, произнес Арслан.
— Вот даже как. Подставили, что ли? Отправили рыцаря чести по виртуальным каналам во всамделишный заговор? В общем, как была у тебя в голове и на языке неописуемая чушь, так и осталась, — констатировал Мариана (однако на физиономии его было написано удовлетворение, слегка даже хищное, как у кошки, которая изловила тощенького, но вполне съедобного грызуна). — Знаешь, как говорят: поскольку мир — это клубок причин и следствий, которые без конца и начала порождают друг друга, — он стоит ни на чем. Какой смысл в том, что ты пытаешься распутать пряжу, не отыскав конца ниточки? И стоит ли эта путанка твоих усилий — не проще ли ее выбросить вон? И вообще: понять нечто возможно, только став над ним. Вот потому я и говорю — не копайся в своих личных воспоминаниях, а придумай мне сказку, присказку или притчу.
— Я не умею говорить притчами, — слегка надменно проговорил Арслан, — и играть символами. Слишком большая ответственность лежит на вопрошающем, и тот, кто покупает истину таким образом, заставляет других платить по его счету. Я за свои устремления всегда платил сам: да будут моими свидетелями эти едва затянувшиеся шрамы.
— Н-да, — покачал головой монах, — воистину сон мой сладостно распорот взглядом глаз твоих раскосых. Придется при такой оказии снова мне начать. А я, как назло, не помню ничего, подходящего к случаю.
И он затеял историю, которая получила название -
ЛЕГЕНДА О ВЕЗДЕСУЩЕМ ЛИЦЕЖрецы некоего храма как-то раздобыли драгоценную реликвию: покров, на котором некими как бы смолистыми следами запечатлелось лицо и очертания прекрасного юношеского тела. Согласно легенде, то был пророк и основатель их религии, которого сожгли за ересь; а следы на погребальной ткани могли быть оставлены кровью, которая перекипела на огне, но непонятным образом не обуглилась.
Чтобы сохранить реликвию, ее сложили в ларец из тяжеловесного серебра и лучших пород дерева, а потом заперли в алтаре. Только по большим праздникам открывались царские врата, и молящиеся могли благоговейно лицезреть тусклый блеск металла, матовый — дерева и, если посчастливится, приложиться губами к холодной поверхности раки.
Сколько так длилось — неизвестно, но, по словам, не очень долго. Ибо вскоре стали замечать на глухой алтарной стене странное золотисто-зеленое сияние в виде вытянутой в длину лежачей фигуры с подогнутыми коленями. Истечение света, как тотчас же догадались, имело своей основой хранимую реликвию: а следует упомянуть, что хотя излучения, равно как и ароматы, исходящие от святых предметов, неоднократно имели место быть, но эту ткань, с неизгладимыми следами крови, грязи и смертного пота, свернули насколько могли туго и вовсе не пытались соорудить из нее нечто антропоморфное.
Жрецы испугались, что магическая сила, которая, как они могли уже убедиться, исцеляла и поднимала дух верующих, — испарится, выветрится без всякого проку. Поэтому было приказано соорудить поверх ларца свинцовую оболочку; царские же врата замуровали и побелили в цвет всей алтарной перегородки, нанеся на это место фреску приличного сему месту содержания.
И вновь было замечено, что поверх извести и краски проступает как бы зеленовато-серебристая, слегка фосфоресцирующая плесень, однако уже не той формы, что была прежде у сияния. Человек приподнялся на ложе и теперь сидел: его профиль виднелся как нельзя более отчетливо, и кое-кто из стариков, знавших казненного проповедника, уверяли, что лик походит на учителя как близнец; однако близнец много претерпевший и возмужавший.
Молящиеся были этим изумлены, а жрецы — страшно напуганы. Ведь темноту алтаря, куда они с опаской заходили через оставленную сбоку узкую дверцу, не нарушало никакое неблагочиние. Разве что некая теплота и еле слышный запах редкого дерева разлились там…
Но и те, и другие были уверены, что своими действиями потревожили и прогневили силу, таящуюся в ковчеге, и оттого призрак, аура погибшего вернулась в оболочку, которую, по другой легенде, пророк чудесно оставил уже после своей смерти: он как бы испарился или просочился сквозь нити. И не дай боги, чтобы теперь его заместила некая злая тень…
Тут, кстати, кое-кто из простых людей вспомнил, что хранить саван — плохая примета и неясно, что нашло на первых учеников и последователей пророка. Поскольку же в доброкачественности и добропорядочности той силы, что проникла в священное одеяние, начали по-крупному сомневаться, решили сжечь осрамившийся ковчег, не вынимая оттуда его содержимого.
И вот серебряный ларец вынесли из боковой дверцы — он ведь был небольшого размера — и положили внутрь огромного костра, превзошедшего своим величием тот, на котором окончил дни сам пророк. Разумеется, ковчег оплавился, а тяжелое на подъем дерево обуглилось вконец: но что дивно — форма его теперь была как у малого египетского саркофага, в каких хоронят детей, и стройное тело со скрещенными на груди руками покоилось в нем, как в лайковом футляре. Кое-кто готов был даже побожиться, что нет, никаких младенцев — человек внутри на самом деле уже достиг того немалого роста, каким покойник отличался при жизни, и сияет как бы темным золотом. Но это уж была совершеннейшая чепуха: такие слухи не имели под собой никакой основы, кроме того, что почернелую и еще тепленькую мумию вынули из пригасшего костра и второпях погрузили на корабль, который тут же взял курс в открытое море.
Далеко от берега нашли глубокую впадину и похоронили там гроб, по всем правилам отчитав и перекинув ради него за борт саженную доску.
Можно было, кажется, и успокоиться душе: но морские скитальцы, пираты, купцы и прочие одиночки все чаще стали приносить в порт известия о плавающей в самом сердце океана клумбе изумительных по красоте лиловых цветов, которые днем испускали запах, дарящий сладостное забвение, а ночью светились наподобие живого аметиста. Те, кто рисковал подняться в воздух на аэростате, уверяли, что из сияющих и пахнущих сиренью и черемухой звезд складывалось лицо совсем уж нестерпимой красоты.
Из-за таких слухов воздухоплавание было запрещено в корне, ибо лицо настигало в воздухе любого аэронавта и обращало его в безумца или блаженного; еще раньше запрет был наложен на мореплавание в зоне лилового запаха и потустороннего света, потому что команда в полном составе все чаще покидала корабль и пропадала неизвестно где. Как возносилась.
Злокозненное лицо тем временем продвигалось все дальше и выше, распластываясь по облакам, которые теперь все время закрывали небо над рифтом. Облака эти были на вид плотнее обычных и светились изнутри наподобие хорошего беленого холста.
Когда так долго — может быть, десять лет, а может быть, и сто — живешь в ожидании Страшного Суда или чего-то в этом роде, страх приедается и первичное потрясение проходит. Небесную аномалию списали на счет атмосферных и глубоководных явлений, цветы, отыграв, должно быть, свою роль, увяли или, скорее, опустились на дно, как вечерние кувшинки; и если район захоронения беспокойного объекта пока оставался закрыт для доступа, то явно по инерции.
Но однажды простец из тех, что проводят всю жизнь в бессмысленных мечтаниях, вздумал наняться юнгой на корабль, курс которого пролегал невдалеке от засекреченного района. Хотя на изыскательском судне всем и всегда достается так много работы, что и головы от нее не поднимешь, но ведь лодырь на то и лодырь, чтобы беспричинно в небеса глазеть.
И вот когда наш дурень безо всякой корысти глядел на воду, которая отражала такие удивительные, такие прекрасные облака… и потом обратил глаза кверху и радостно улыбнулся, глядя на слагающийся из тумана лик, — это лучшее из изображений отпечаталось на обратной стороне его век, будто негатив. Произошло то, чего хотели они оба, — Лик вошел в человека и полностью совместился с ним. Тогда человек понял, что это он сам отражается на светлом экране небес, где бессменно пребывает другое его «я». Их было двое, но когда они улыбались друг другу, то становились одним: это сохранялось и когда они отводили взоры друг от друга, а когда снова соединяли — умножалось.
— Вот, — устало сказал Мариана, — сам не понимаю, с чего меня тащит на сказочки с потаенным смыслом внутри, как брюхатую на соленый огурец. По своей природе я вовсе не мистик.
— Мне редко случалось глядеть на небо в детстве, — отвечал Арслан, — а в юности и тем более. Не осмеливался, наверное. Только не по той причине, монах, что мне приходилось убивать — в игре или взаправду. Ведь людская кровь не святее зеленой крови срезанных трав, да и сама плоть человеческая, как говорят христиане, не что иное, как трава. И не нам вовсе, как узнал я из одного прозрения, — созданиям с мутной кровью, не умеющей сверкать, — не людям, а деревьям дано величие совершенной жизни. Гигантским деревьям, этим вросшим в землю мамонтам и драконам. Широким многоствольным древесным семьям, распространившимся вокруг себя рощей, исходящей из одного семени и корня. Люди же теряют свое врожденное право из-за безумия и своеволия, которое обрушивают на то достояние, что вверено их жертвенности и попечению. Природа не мастерская и не лаборатория для эксперимента — и если теперь уже не храм Бога, то, по крайней мере, его приют.