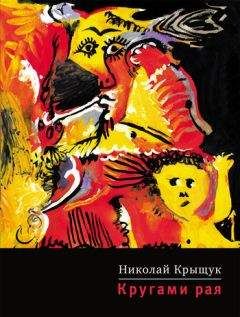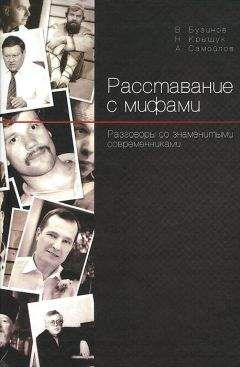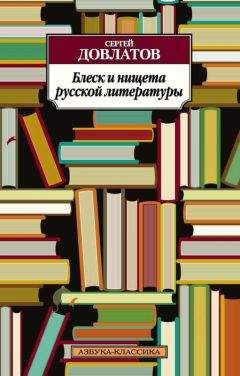Николай Крыщук - В Петербурге летом жить можно…
Ничего, сверчок!
Утро, редкотканое, с аккуратно прошитыми в тумане стежками дождя, висело перед окном. Я раздвинул, поправил еще покосившуюся от ветра гирлянду рождественских огней и пошел, пошел завораживать пространство, притворяясь неузнанным.
Рядом с цветочницами, согревающими цветы, я приметил Сашку – друга моего схороненного в дет стве брата. Сашка тоже заметил меня. Его глаза, как всегда, от этого вывалились, взмахом головы он вернул их обратно и улыбнулся.
– Привет! Поздравляй меня – мне сегодня полтинник. Сейчас идем на угол – там шампанское. Бутылок десять в твою сумку поместится? Потом в баню – наши уже ждут.
С необычайной проворностью Сашка прожался сквозь огнедышащую толпу и оказался у кассы. С другой стороны на манер викторианских нищих протягивали руки с деньгами два изболевшихся от простоя алкаша. Сашка щедро подал им руку помощи.
У прилавка он открыл мне мою сумку и стал складывать туда товар, тяжелый, как атмосферное давление.
– Почему двенадцать? – спросил я.
– Все правильно! – прошипел он. – Пошли быстрее.
Не успел я осознать загадку, как вслед за нами на улицу выскочили, покачиваясь от ветра, голодные алкаши.
– Валим, – шепнул Сашка, – убьют! – и побежал в соседний переулок с крупнозадой сноровкой чемпиона школы. Но с таким грузом, как у меня, хорошо было бежать только от человека, который в жадном покаянии хочет вернуть тебе долг. Через два дома меня настигли.
– Два фуфаря наши! – твердо сказал алкаш.
– Нет, три! – крикнул другой. – Давай, выкладывай.
– Ладно, не зарывайся, – попытался остановить его первый.
– Три, я сказал. А то сейчас опустим, – он стал прыгать вокруг меня в боксерской стойке. Первый, более справедливый, достал нож.
«Эх, Сашка!» – подумал я.
Того алкаша, который изображал боксера, я толкнул в лоб, и он деревянно упал на спину. Второго легонько ударил по голове, и он присел на асфальт, заснув у меня на ботинке. Я поставил на тротуар две бутылки и пошел в неопределенном направлении со своим бесполезным грузом. Улыбающийся Сашка ждал меня за углом.
– Что ж ты? Я думал, ты побежишь за мной.
– Гад ты, Сашка, – сказал я.
– Ну не сердись, – Сашка обнял и поцеловал меня. – Мы же с тобой вроде как братья. С Витюхой твоим еще в песочнице играли. Пошли, там у ребят уже горлы перегорели.
В качестве носильщика я поплелся за ним.
«Они играли с моим братом в одной песочнице, – думал я, подавляя в горле слезы. – Почему это обстоятельство наложило на мою жизнь какие-то странные обязательства? Эники-беники-си-колеса…»
– Ба! – загрохотала, увидев нас, банная компания. – Вовремя пришли. Об отсутствующих либо ничего, либо плохо!
Понеслось. Неприцельно застреляли в потолок бутылки. Белый палтус, нежно распластанный, лег на тарелку. Листы маринованной капусты доставали из кастрюли рукой, другой тянулись друг к другу с рюмкой водки. Шампанским запивали.
Я разделся и осторожно вошел в ад парилки. Смешанный запах березы и эвкалипта вскружил голову.
За стеной чествовали предателя Сашку. Запели маршевую песню, стуча стаканами по деревянному столу. В горле закипели слезы не только от обиды, но и от злобы.
Вдруг я заметил, что по полку ко мне ползет мохнатый сверчок. Это было сравнительно крупное и на людской взгляд довольно-таки безобразное существо. Вероятно, уже старик. Скрипку свою он волочил сзади.
– Нет сил жить, – сказал сверчок. – Всякий раз колотят в стены, чтобы вышибить из меня дух. Иногда гоняются за мной босыми ногами. До искусства никому уже нет дела.
Я погладил по спине моего благородного друга, стараясь отстраниться, чтобы капельки пота не падали на него.
– Ничего, – сказал я, запирая дверь на деревянную палку. – Ничего. Если начнут рваться, будем отстреливаться. А пока – сыграй что-нибудь.
Из дневника
Есть особый мир – мир графоманов. Он проявляется во всем: в одежде, в любви, в словесности, разумеется. Это не бездарность, а особая форма душевнобольной одаренности. Не просто неточность, а какая-то прицельная неточность. Не экзальтированность даже, а какое-то абсолютно не контролирующее себя простодушие да с изыском («да с потрошками»), своеобразно, разумеется, понимаемым.
Из дневника
Некая общественная комиссия по Достоевскому. В большинстве своем – убогие и больные. Им в нашей стране всегда больше всех надо. Страна такая или такие убогие?
Решается задача: надо восстановить целый квартал, чтобы ожило. Булыжные мостовые непременно, трактиры, каморку Раскольникова. Повесить красные фонари, где надо. И пусть Мармеладовы за актерскую ставку там пьют с посетителями бесплатно. И Сонечки в три смены предлагают свои услуги. Прибыль от иностранцев все окупит. Топор раритетный надо закрепить, чтобы не украли. Вообще же весь этот духовно-уголовный мир должен базироваться на самоокупаемости и строгой морали.
Из дневника (Пушкин)
О Пушкине говорить всегда уместно. А главное, каждому как будто есть при этом что сказать. Верить, что это действительно так, смешно, радоваться всенародной говорливости – глупо. Но все же любопытно и отчасти загадочно.
Будто мы все еще так молоды, что нуждаемся в кумирах, которые становятся чуть ли не так же обиходны и необходимы, как утварь. Домыслам и пересудам нет числа, словно Пушкин еще жив и может кому-то помешать или кого-нибудь осчастливить.
Вспоминаю, как ждал однажды кого-то или чего-то в здании Лицея. Из комнатки экскурсоводов доносился разговор. Женщины спорили о чем-то, что явно не относилось к теме экскурсий. Это был именно разговор женщин. Пожалуй, да нет, определенно, скандал.
Может быть, происходит то, что мужчины называют «разбор полетов», когда подводят не всегда утешительные итоги вчерашних гуляний? Может быть, кого-то не поделили с утра?
Каково было понять, что этот «кто-то» – Пушкин! Ревниво, со знанием предмета перебирали имена пушкинских возлюбленных, находя их либо недостойными, либо опасными. Негодование и сарказм носили исключительно личный характер.
Бывает, малая нация трогательно носится со своим кумиром, бывает, что он становится при этом источником ученого иждивенчества и государством назначается на роль патриотического чучела. Хотя мы не малая нация, но с Пушкиным именно так все и произошло.
Но поразительно не то, что Пушкин произведен в высший государственный чин, а что это не погубило, не повредило его в наших глазах. У каждого – от городского пушкиниста до крестьянина – с ним какие-то личные отношения, какие у кого получаются. В этом действительно есть некая тайна.
Что это существо, заброшенное, по Гоголю, из будущего, может нам сегодня сказать? Может быть, все дело в его небывалой, опережающей время литературной дерзости? Мне приходилось слышать мнение, что русская литература идет вспять, то есть проходит пешком тот путь, которым Пушкин однажды пролетел. Не знаю. Тогда, во всяком случае, пришлось бы признать, что наша литература делает сейчас невероятный крюк. Да и потом, многим ли сегодня есть дело до литературы?
Тайна потому и тайна, что она зафлажена для нас. Можно вычислить ее, можно подойти к ней очень близко – проникнуть в нее нельзя.
Так в чем же все-таки дело?
Во всяком случае, не в уроках Пушкина. Скорее, в том, что из него нельзя извлечь никаких уроков. Он, быть может, единственный в русской литературе, уникально уклоняется от роли учителя.
Я давно положил себе запрет приводить Пушкина в пример. Даже в разборках с самим собой. Он не пример, не урок, не упрек, не образец. В смысле нормы он бесконечно уклончив, неподражаем. Нельзя перенять ни одну из его повадок, приберечь для выигрыша в разговоре ни одно из его высказываний, литературно продолжить, привлечь в качестве морального авторитета.
Наиболее верный кинематографический Пушкин появился, на мой взгляд, в комедии «Разбудите Мухина!» – в комедии, а не в драме или трагедии. Не Хлестаков ли он, в самом деле?
Знал ли Пушкин бездны? Знаком ли он был с трагичностью бытия? Да. Но. В этом «но» все дело. Синтаксически весь Пушкин – это «но» и при этом весь – положительная неоспоримость.
Вспомним ядовитые пассажи Мефистофеля в «Сцене из Фауста»:
Я психолóг… о вот наука!..
Скажи, когда ты не скучал?
Об этом поэте Блок сказал «веселое имя: Пушкин»?
«Сцена из Фауста» – не перевод (ничего подобного у Гете, кажется, нет), не подражание. Право, не пародия ли это? Но и не пародия.
Все тупики и бездны европейского сознания Пушкину были известны, но у него как будто не было времени долго глядеть в них и тем более не было нужды пугать нас ими. Он просто жил свободно и свободно, не в пример своему гениальному же тезке, мрачному, многоумному и трагическому, подарившему нам все же изящнейший вальс своего имени.
Ночной спаситель
Кто не хочет сбежать? И я решил сбежать, если уж не от себя и не от семьи, то от умысла прекрасного гнетущего Петербурга, от умысла дружественных звонков, случайных встреч, парадного исполнения своей службы. В свою деревню с мультипликационно-корневым названием Афемьево, где пошли колосовики, а земляника, если неосторожно переходить от тына к полю, окрашивает следы своей кровью. Со времен еще претенциозной юности своей мечтал почувствовать себя деревенщиком.