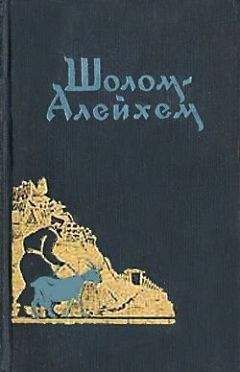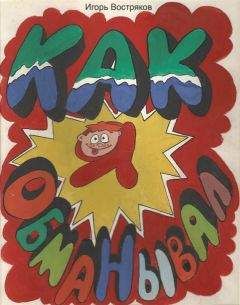Виктор Левашов - Журналюга
Мы уже навсегда вместе. Любимый мой, радость моя, счастье мое…
«— Борис Федорович, вы счастливый человек?..»
Глава пятая. Цена вопроса
В Москву Лозовский возвращался поездом. Ему нужно было время, чтобы выветрились въевшиеся в него запахи лекарств и мочи, чтобы отойти от нервного напряжения, в котором он находился пять суток в Должанке, когда порывы новороссийского норд-оста били в ставни и пересчитывали черепицу на крыше, а время измерялось не часами и минутами, а истечением глюкозы и физиологических растворов из капельниц, которыми была обставлена кровать с чудовищно огромным неподвижным телом Христича.
Ошеломление, которое Лозовский испытал, когда увидел, во что превратился Борис Федорович Христич, лишило его всякой способности к размышлению, заставило действовать, как при пожаре, когда некогда думать ни о причинах пожара, ни о его последствиях. Не слушая неуверенных возражений Наины Евгеньевны, он смотался в Ейск и по объявлению в местной газете нашел частнопрактикующего нарколога. Нарколога звали Равилем. Он был молодой, из крымских татар, совершенно лысый, с реденькой бородкой и в сильных плюсовых очках, которые делали его темные глаза огромными, как у филина. Он не выразил по поводу экстренного вызова никакого удивления, деловито загрузил в свою «Волгу»-пикап объемистый кофр с медикаментами, заехал за медсестрой, средних лет миловидной татаркой, как понял Лозовский — какой-то своей родственницей. Узнав, что Лозовский приехал на наемной машине, любезно предложил отпустить частника: в «Волге» места хватит.
— Запой тяжелый, — предупредил Лозовский.
— Запои всегда тяжелые, — философски отозвался Равиль, уверенно ведя «Волгу» по шоссе вдоль штормящего Азова. — Если запой не тяжелый, это не запой, а так — похмелье.
Он что-то сказал по-татарски медсестре, она сердито ответила. Нарколог засмеялся.
— Фатима говорит, что за удовольствия мужчин всегда расплачиваются женщины. Это единственный случай, когда за свои удовольствия мужчины расплачиваются сами. Она говорит: так им, козлам, и надо.
Но когда после осмотра Христича врач вернулся из спальни на кухню, на его хитром татарском лице не было и тени оживления, а глаза из-под толстых линз смотрели хмуро и как бы укоризненно.
— Сколько это продолжается? — спросил он.
— Два года, — ответила Наина Евгеньевна. — Как из Нюды приехали, — объяснила она Лозовскому.
— Два года каждый день?
— Да, каждый день.
— По сколько?
— По бутылке. Последнее время меньше.
— Что он пьет? Покажите.
Наина Евгеньевна проставила на стол початую бутылку «Московской». Нарколог отвинтил пробку, понюхал, потом капнул на руку, растер, снова понюхал.
— Не эрзац, — заключил он. — И то хорошо. И это единственное, что хорошо. Ест?
— Очень мало.
— Сколько он не разговаривает?
— Месяца два. Но он все понимает, я по глазам вижу.
— Его нужно в больницу, немедленно. Вызывайте скорую.
— Нет, он не хочет в больницу, — возразила Наина Евгеньевна и сухо, по-старушечьи поджала губы.
— Что значит хочет или не хочет? — возмутился Равиль. — Он не в том состоянии, когда его нужно спрашивать, чего он хочет!
— Он не поедет в больницу, — твердо повторила Наина Евгеньевна.
— Он умрет, — предупредил нарколог.
— Да, — сказала она. — Я знаю.
— Знаете?!
— Да, доктор. Он не хочет жить.
— Пойдемте покурим, — предложил Равиль Лозовскому.
— Я не курю.
— Я тоже.
На веранде, стекла которой едва ли не прогибались от напора ветра, он укорил:
— Вы сказали, что это запой. Нет, это самоубийство. Она ему кто — мать?
— Жена.
— Жена?!
— Да.
— Она сумасшедшая! Их обоих нужно лечить! Боюсь, что я ничего не смогу сделать.
— Доктор, вы сделаете все, что сможете. Вы сделаете все, что в ваших силах, — повторил Лозовский. — Большего от вас не требуется. Сколько нужно заплатить — скажете.
— Вы уверены, что это правильное решение?
— Я ни в чем не уверен. Но я хочу знать, что сделал все, что мог.
— Фатима, работаем, — распорядился Равиль, вернувшись в дом. — ЭКГ, все анализы. Купирующие уколы. Транквилизаторы, капельницы. По полной программе.
День переходил в ночь, ночь в день. Незаметно и неостановимо, как время, текла прозрачная жидкость по пластмассовым трубочкам, проникала в вены Христича, вымывала из его крови яды, выходила мочой и острым горячим потом. Наина Евгеньевна и Лозовский дежурили по очереди, медсестра спала на диване в зале. Тут же пристроили раскладушку для Лозовского. Когда раствор в капельнице иссякал, ее будили. Каждое утро приезжал Равиль, назначал новые уколы, вечером звонил по мобильнику медсестре.
Разговаривали они по-татарски, и по тону ясно было, что ничего хорошего не происходит.
В огромном теле и голове Христича происходили какие-то процессы, никак не связанные между собой, мозг жил своей жизнью, а отдельные части тела своей. Эта рассогласованность движений разрезанной на части лягушки была жуткой, невыносимо тягостной, как нескончаемая агония.
Лозовский выскакивал во двор, окунался в ветер и дождь со снегом, дышал всей грудью, стараясь надышаться надолго, и возвращался в тускло освещенную ночником спальню, как к покойнику.
Самой страшной была третья ночь. Лицо Христича неожиданно побагровело, большие белые руки задвигались, как бы снимая с тела и отбрасывая что-то мерзкое. Лозовский разбудил Фатиму. Она ахнула и схватилась за телефон. Через час примчался Равиль на «Волге», следом во двор влетел реанимационный микроавтобус с работающими мигалками. Два врача в зеленых халатах втащили в спальню какие-то устройство, как позже узнал Лозовский — аппарат «искусственная почка». Часа четыре из спальни доносились короткие, как бы лающие голоса. Потом все трое вышли.
— Кажется, обошлось, — сообщил Равиль, вытирая мокрую от пота голову. — Дайте им пятьсот долларов.
Врачи молча взяли деньги, молча выпили на кухне по стакану водки и уехали. Равиль с Фатимой остались дежурить.
Утром Равиль повторил:
— Обошлось. Теперь он будет спать. Не меньше суток.
Фатима еще побудет, на всякий случай. Завтра утром я приеду.
— Что это было? — спросил Лозовский.
— Дилериум. Обострение белой горячки.
Лозовский доплелся до раскладушки и отключился.
Проснулся он, как ему показалось, от тишины. Не грохотал ветер в ставнях, не звенела черепица на крыше. За окном голубело. Он заглянул в спальню. Наина Евгеньевна сидела возле кровати, двумя руками держала огромную белую руку мужа, поглаживая ее, словно щенка. Она повернула к Лозовскому счастливое, сияющее, залитое слезами лицо:
— Спит! Володя, он спит! Послушайте, как он дышит! У него даже румянец, видите?
Приехал Равиль, подробно проинструктировал Наину Евгеньевну, какие лекарства и когда давать, чем кормить: бульон, соки. Предупредил:
— И ни капли алкоголя. Если вы хотите, чтобы он жил. Фатима, собирайся, мы закончили. Это все, что мы могли сделать, — извиняющимся тоном сказал он Лозовскому, когда тот вышел проводить его до машины.
— Сколько я вам должен?
— Даже не знаю. Такого случая у меня еще не было.
Лозовский дал ему полторы тысячи долларов — почти все, что у него осталось.
— Если мало — скажите.
— Хватит. Спасибо. Мой вам совет: устройте его в стационар. Сейчас есть хорошие частные клиники.
— В психушку?
— Да.
— Надолго?
Нарколог снял свои совиные очки, пощурился маленькими глазками на просветы голубизны над угрюмо притихшем свинцовым морем и сказал:
— Навсегда.
Когда Лозовский вернулся в дом, Наина Евгеньевна молодо, весело хлопотала на кухне.
— Какое счастье, Володя, что вы приехали! Я прямо не знала, что делать. Думала: это все, конец. Сейчас я что-нибудь сготовлю. И будем пить чай. У нас хороший чай, настоящий краснодарский, никакого другого Борис Федорович не признавал.
— В Нюде он пил? — задал Лозовский вопрос, который давно вертелся у него на языке, но раньше был неуместен.
— Нет. Что вы, Володя! Он работал. Вы же знаете, как он работает. По двадцать часов в сутки. Он помолодел лет на пятнадцать. Я даже не знала, радоваться мне или огорчаться.
— Почему?
— Он снова от меня уходил. В работу. Его одержимость — это его проклятье. Но по-другому он не умеет. Есть люди, которые умеют, а он не умел.
— А раньше — в Канаде?
— Бывало. После театра или после концерта. Мы заходили в бар, потом гуляли и разговаривали. Мы никогда столько не разговаривали. Однажды он сказал, что был мне плохим мужем. Нет, он был мне хорошим мужем. Только не знал этого. Мы с ним прожили вместе тридцать лет. Вы не поверите, Володя, но каждый день был для меня счастьем. Каждый! Я иногда спрашивала себя: за что?