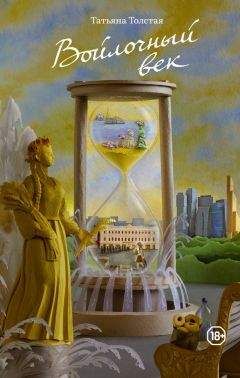Татьяна Толстая - Изюм
Казалось бы, хороший тон — говорить не об авторе, а о его произведении, и, задумавшись попутно о том, насколько этот принцип приложим к авторам трудов автобиографических и полуавтобиографических, попробуем по возможности держаться правил литературного приличия. Тут, правда, сразу возникают тонкости и трудности. Макин русский человек, но НЕ русский писатель, и это и есть самое странное и интересное в этой истории. Из его романа, собственно, следует, что он хочет быть русским, а если иногда восстает, то этот протест кратковремен; что он обречен на русскость, что с этим ничего не поделать. А с другой стороны, он хочет быть французом, он поселился в Париже, он хочет писать по-французски, его русская и французская ипостаси одновременно составляют целое и борются друг с другом. Вот тут бы мне и решить для себя, о ком мы, собственно, говорим — о писателе или о его герое, его альтер эго, но роман ровно до такой степени автобиографичен, что разделить их трудно, а кроме того, как я хочу показать ниже, «языковая личность» автора в самой большой степени влияет на текст романа, на стиль, на композицию и все прочие элементы его структуры.
Попробую пересказать сюжет, но буду вынуждена делать длинные отступления в сторону. Маленький мальчик, почти безымянный (лишь к концу романа кто-то называет его Алешей, что легко и пропустить), вместе со своей безымянной сестрой живут в большом индустриальном городе где-то на Волге. Каждое лето они проводят со своей бабушкой в маленьком городке, а то и селе, называемом Саранза (название, очевидно, выдуманное). Эта Саранза находится на краю бесконечных волжских степей, и бабушкин дом — последний в ряду: он смотрит в степь. В Саранзе есть избы, но бабушкин дом построен в стиле модерн, сразу перед революцией. Балкон квартиры висит прямо над степью. Вечером бабушка зажигает бирюзовую лампу, садится чинить кружевную блузку, а дети у ее ног слушают рассказы бабушки. Бабушка — француженка, красивая, элегантная, сдержанная, образованная, несколько отрешенная; к необыкновенным ее достоинствам относится умение ладить с местным населением: пьяницей Гаврилычем, молочницей, бабками во дворе. Рассказывает она детям о Франции, рассказывает о своей жизни, читает французские стихи. Под ее кроватью стоит «сибирский сундук», набитый вырезками из старых французских газет, фотографиями и тому подобным; содержимое она показывает и пересказывает детям. Постепенно они подпадают под очарование бабушкиных рассказов, под очарование языка; видят, слышат и осязают почти до галлюцинаций этот чужой и далекий мир: Францию начала века, не существующую более нигде, кроме их воображения. Есть мир степной Саранзы — а вернее, мир бабушкиного висящего над степью, над краем земли, балкона; есть мир бабушкиного прошлого, о котором позже, и есть мир выдуманной Франции, — все эти миры находятся в сложном переплетении.
Мальчик, — рассказчик — необычайно впечатлителен, к слову, мечтателен и словно бы отрешен, порой, до аутизма. Он — вуайер особого рода: для того чтобы в полной мере пережить головокружительное ощущение присутствия, чтобы мертвое «ничто» превратить в непосредственно переживаемое ощущение, ему необходимо слово, волшебная формула, позволяющая остановить и воскресить утраченное мгновение. Вот он, подросток, рассматривает газетную вырезку, — а на обороте фотография трех красавиц былых времен.
«И тут же влюбился в них. В их фигуры и в их нежные внимательные глаза… (…) Да, их красота была именно такой, какую юный мечтатель, физически еще невинный, может без конца представлять себе в эротических сценах собственного сочинения (…) Я всматривался в них, и мне все больше становилось не по себе. Их тела были мне недоступны. (…) Тогда я попытался приблизить их к себе, сделать своими воображаемыми любовницами. Посредством вышеупомянутого эротического синтеза я смоделировал их тела — они двигались, но как-то деревянно, будто спящие летаргическим сном, которых одели, поставили на ноги и выдают за бодрствующих».
Все попытки воскресить красавиц с газетной вырезки тщетны, и тогда —
«Вот тут-то мне на ум, вновь обратившийся к трем красавицам, пришла эта мысль… (…) Я сказал себе: “Но ведь было же все-таки в их жизни это ясное, свежее осеннее утро, эта аллея, усеянная опавшими листьями, где они остановились на какое-то мгновение и замерли перед объективом. Остановив это мгновение… Да, было в их жизни одно яркое осеннее утро…”
Эти немногие слова совершили чудо. Ибо внезапно я всеми пятью чувствами ощутил мгновение, остановленное улыбкой трех женщин. Я очутился прямо в его осенних запахах, ноздри мои трепетали… (…) Да, я жил, полно, насыщенно жил в их времени! Эффект моего присутствия в том осеннем утре, рядом с теми женщинами был так силен, что я чуть не в панике вырвался из его яркого света. Я вдруг очень испугался, что останусь там навсегда. (…) И плоть их, только что недосягаемая, жила во мне, купаясь в остром запахе сухих листьев, в легкой дымке, пронизанной солнцем. Да, я угадывал в них тот неуловимый трепет, которым женское тело встречает новую осень, эту смесь удовольствия и тревоги, эту светлую печаль. Между мной и тремя женщинами больше не было преград. Наше слияние было таким любовным, таким полным, что с ним, я чувствовал, не сравнится никакое физическое обладание».
Найдя нужный прием, он пробует его еще и еще раз, — с тем же необыкновенным результатом.
«Преображение трех красавиц позволяло надеяться, что чудо можно повторить. Я хорошо помнил ту простую фразу, которая его вызвала: “Но ведь было все-таки в их жизни это ясное, свежее, осеннее утро…” Подобно ученику чародея, я снова вообразил усатого красавца в кабинете у черного окна и прошептал магическую формулу… (…) Не успев толком прийти в себя, я опять повторил свое “сезам, откройся”: “А все-таки был в жизни того старого солдата один зимний день…”»
Я опускаю большую и лучшую часть текста — он в журнальной публикации занимает почти четыре страницы убористого шрифта. Выбраны лишь отрывки, демонстрирующие механизм, который запускает писательское — а это именно писательское — воображение. Другие писатели, очевидно, могут пользоваться другими приемами; и существуют любопытные свидетельства, о том, кто из великих предпочитал какие сильнодействующие средства, чтобы личный «сезам» открылся и заработал: тут и нюхание гниющих яблок, и таз с холодной водой для ног; один классик лежал на диване, свесив голову вниз, чтобы прилила кровь (XIX век), другой выходил с утра на улицу и считал и складывал номера проезжавших машин по особой формуле, ища знака свыше (век XX). Все это, может быть, очень любопытно, но читателю художественной литературы нужно не знание приемов, а достигаемый с их помощью результат. Читателю нужен тот текст, который только что опущен мной при цитировании, он сам хочет увидеть и почувствовать всеми пятью чувствами и трех красавиц, и усатого мужчину у окна, и старика-солдата; читатель и сам — вуайер, возбуждающийся от слов, для того он и читает.