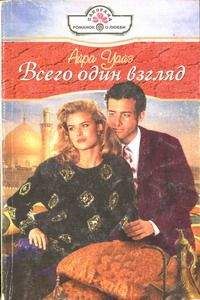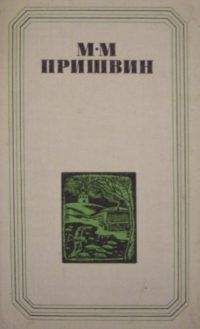Чарльз Мартин - Когда поют сверчки
Часто, придя домой после трех дней и двух ночей бесперебойной работы, я чувствовал, что мои веки будто налиты свинцом, однако я настойчиво гнал от себя сон, который мог помешать мне прислушиваться к дыханию моей жены. А звук ее дыхания в свою очередь помогал мне справляться с неуверенностью и держать в узде сомнения и страхи.
Иногда, просыпаясь среди ночи, Эмма видела, что я не сплю, и легонько касалась моей щеки кончиком пальца.
– Привет.
В ответ я улыбался.
– Неужели тебе не хочется спать?
Я отрицательно тряс головой.
Она тоже улыбалась и касалась моих губ.
– Врешь.
Я кивал.
Тогда она крепче прижималась ко мне, упиралась пальцами ног в мои ступни и закрывала глаза. Каждый раз в такие минуты мне хотелось сказать ей: «Постой, не засыпай, поговори со мной хотя бы еще немного!» но, прежде чем я успевал произнести эти слова, Эмма засыпала.
После этого я еще долго лежал без сна, слушая бешеный стук своего сердца и чувствуя, как в моих объятиях наполняется воздухом слабая грудь. Спать хотелось смертельно, но я сопротивлялся сну, как корабль сопротивляется буре: волны разбивались о мой форштевень, перехлестывали через борт, но я только крепче вцеплялся в руль. Увы, управлять этим кораблем я мог ничуть не больше чем теми деревянными суденышками с газетными парусами, которые мы пускали вниз по ручью, когда были детьми. Мы могли скользить по воде, могли изо всех сил налегать на весла, могли заходить на мелководье, но в конце концов всех нас уносила вода. «Это было лучшее из всех времен, это было худшее из всех времен;… это была весна надежд, это была зима отчаяния; у нас было все впереди, у нас не было ничего впереди»[58].
Убедившись, что Эмма крепко спит, я доставал из-под подушки стетоскоп и, согрев дыханием металлический кружок с мембраной, прикладывал к ее худенькой спине и слушал. Летели часы, шторм по-прежнему шумел у меня в ушах, в голове ревели волны, а руки на руле немели от напряжения, но я продолжал прислушиваться к ее дыханию. И только под утро, когда я окончательно слабел и больше не мог сопротивляться, волны опрокидывали меня, в щепки разнося корпус и прибивая к берегу обломки. А уже через час я просыпался от жгучего солнечного света и от боли, которую причиняла мне неизвестность – одинокая жертва кораблекрушения.
* * *Мне, разумеется, было ясно, что случай Эммы сложнее всего, с чем мне до сих пор приходилось сталкиваться. Операции я не слишком-то опасался, хотя работа предстояла сложная, почти ювелирная. Куда больше меня беспокоил долгий послеоперационный период. Я не знал – не мог сказать, каким он будет. В течение многих лет Эмма принимала сильнодействующие препараты, которые не только замедляли процесс умирания ее сердца, но и ослабляли иммунную систему. Мне, таким образом, предстояло составить такую программу медикаментозного лечения, чтобы, с одной стороны, продолжить подавление иммунитета, предотвращая реакцию отторжения донорского сердца, а с другой – поддержать иммунную систему просто для того, чтобы Эмма не умерла от первой же легкой простуды и мы смогли вместе встретить старость. Тревога в моем сердце сменялась надеждой и наоборот, а времени оставалось все меньше. Нужно было начинать подготовку к пересадке, однако Эмма неожиданно заявила, что не хочет, чтобы ее оперировал я. Она считала, если что-то пойдет не так, то я буду во всем винить себя, а ей не хотелось, чтобы я до конца жизни нес на себе эту тяжкую ношу.
Между тем ее фракция выброса[59] продолжала падать. Когда она достигла пятнадцати процентов, я начал всерьез подумывать, кого пригласить в операционную команду. Мне нужна была еще одна пара умелых, надежных рук – нужен был человек, который был бы как минимум не хуже меня. Впрочем, вариантов у меня было не много, поэтому я довольно скоро остановил выбор на докторе Ллойде Ройере Моргане – опытном пятидесятилетнем хирурге, который провел много пересадок сердца, и провел блестяще, что сделало его одним из лучших трансплантологов восточной части страны. Оперировал Ройер не только в Святом Иосифе, но и выезжал в больницы других штатов. Общались мы достаточно тесно, и я льстил себя надеждой, что неплохо его знаю.
Ройер был настоящим душкой, если только это уютное слово применимо к рослому мужчине с ручищами, как лапы медведя. Несмотря на устрашающие габариты, он был человеком на удивление мягким, внимательным, заботливым – добрый великан, да и только! Хирург по призванию, Ройер, к сожалению, не мог в полной мере проявить себя в детской трансплантологии, но не потому, что чего-то не знал, не умел или не обладал соответствующими талантами. Его огромные руки просто не помещались в тесном пространстве детской грудной клетки, но, когда дело касалось взрослых, ему было трудно подобрать замену. Если бы у меня было плохо с сердцем и мне понадобился кардиохирург, я бы хотел, чтобы меня оперировал Ройер.
Мы с Эммой пригласили его на обед в «Чопс», в Бакхеде – деловом центре Атланты. Ройер пил красное вино, отправлял в рот аккуратно нарезанные кусочки бифштекса и слушал нашу историю. В конце обеда я попросил его быть моими руками во время предстоящей операции. Ройер посмотрел на Эмму, она кивнула, и он сказал «да».
После этого началась бесконечная канитель с анализами, которые были необходимы, чтобы убедиться: Эмма готова к операции. Мы внесли ее в очередь нуждающихся в пересадке сердца. Вечером во вторник я ввел все необходимые данные в информационную базу Национальной службы по учету и распределению донорских органов и официально зарегистрировал Эмму как готового к операции реципиента, но, когда я позвонил ей, чтобы сообщить новости, она неожиданно расплакалась. Ей было тяжело думать, что теперь ее жизнь будет напрямую зависеть от чьей-нибудь безвременной смерти.
Глава 30
День обещал быть теплым и солнечным – я определил это по тянувшему с озера умеренному ветру.
Встал я рано: неприятные, тревожные сны все равно не дали бы мне спать дольше. Ну а если говорить откровенно, они не давали мне спать и большую часть ночи, поэтому наступление утра я воспринял с облегчением.
В этот день я надел фланелевую рубашку с воротником, который можно было поднять в случае необходимости, нацепил солнечные очки и надвинул на лоб козырек бейсболки. Я не стал подстригать бороду, чтобы еще меньше походить на себя прежнего. Мой «Субурбан», который когда-то был серым, а теперь основательно подвыцвел на солнце и к тому же был испачкан характерной для Джорджии красной глиной, даже отдаленно не напоминал сверкающий новенький «Лексус», который я когда-то водил, и я с удовлетворением подумал, что теперь мне можно не бояться, что в Святом Иосифе меня кто-нибудь узнает.