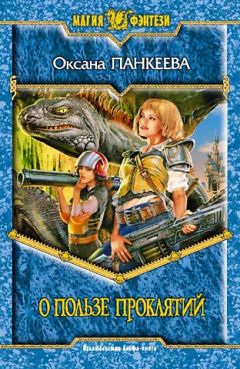Йозеф Винклер - Родная речь
Работая в пресс-службе института, он собирал для ректора вырезки из газет, где говорилось о высшей школе, но параллельно вырезал сообщения о самоубийцах и складывал их в отдельную папку, которая пухла с каждым месяцем, и в конце концов начал составлять две картотеки с предметным и именным каталогами. Предметный в алфавитном порядке фиксировал причины самоубийства, названные в газетном сообщении, а именной, естественно, — фамилии и имена самоубийц из числа соотечественников.
Однажды он заметил среди пассажиров поезда молодую беременную женщину, с глубокими вздохами она гладила свой живот и прижимала к нему руку стоявшего рядом мужа. И он поглаживал ее живот, словно обнимая маленький земной шар, улыбался и прикладывал ухо к пупку. Из их разговора он понял, что супруги возвращаются из Венеции, куда ездили на Пасху. Он представил себе, как эта пара идет по площади Св. Марка, перешагивая через сверкающие лужи. Поскольку на женщине было платье, она, делая широкий шаг, могла видеть отражение нижней части своего разбухшего живота, предположил он, глядя прищуренными глазами на проплывавший за окном пейзаж.
В детстве, когда он впервые услышал про раковую болезнь, воображение рисовало ему настоящего речного рака, который вырос в теле больного и смотрит из его глаз. Глядя на гнойные угри, покрывавшие половину его лица, Мария, кухарка священника, говорила: «Может, у тебя рак». Когда веревка прилипает к детской спине, истязаемый прогибается, падает на колени, а истязатель вновь заносит руку, чтобы еще раз ударить стоящего в молитвенной позе ребенка.
Подростком я влил свою недозревшую сперму в целлофановый пакетик, а потом положил его на деревянную колоду и изрубил топором. Я размахивал топором и дико орал: «Хана тебе, нищий студент! Еврей! Дармоед! Плёваное семя! Нянька! Полубабок! Прачка! Малокровка! Рожа скребаная!» И все нерожденные младенцы содрогнулись от страха в животах всех деревенских матерей и забились, как припадочные.
Мучитель колотит ребенка массивным распятием. Ребенок истекает кровью из ран на руках Спасителя. Распятый кричит голосом избитого ребенка, а тот смотрит на кровь, сочащуюся из-под ногтей. Смертельный страх, страх перед смертью гнал малокровного трансвестита по улицам, покуда он, приникнув губами к голой груди какого-нибудь юноши, не успокаивал свою душу.
Он заказал себе свои прижизненные маски из гипсовых повязок, края подтянул к ушам и закрепил резинкой. По ночам он облачался в зеленый спортивный костюм, надевал белую прижизненную маску и бродил по городу, пока путь не преграждала полиция. Проститутки обоего пола таращили на него глаза, когда в тренировочных штанах и в маске он толкался на Блошином рынке, проявляя какой-то свой интерес к тусовке аутсайдеров. Развеселившаяся до визга шлюха приплясывала, гвоздя асфальт шпильками туфель.
«На левой стороне лица, — рассказывал он, — у меня вновь появилась угревая сыпь, когда было покушение на Папу Иоанна Павла Второго. Еще в кафе я почувствовал, как зудит кожа. А придя домой, обнаружил нарывы…»
Он зажигал праздничные свечи, когда я, раскладывая на блюде сыр, уронил на пол ломтик, который сразу же и съел, чтобы грязный кусок не попал в рот ему. Мне бросилось в глаза его явное предпочтение свечей электричеству. «Не могу понять, почему в помещении, где прощаются с покойником, справа и слева от гроба вместо восковых свечей ставят их электрические подобия. Неужели из опасения, что покойник может сгореть, погибнуть от огня, от первой стихии?»
Почему меня преследует желание убить себя и лишь изредка — кого-нибудь другого? Возможно, я мог бы убить того, кто особенно досаждал мне при жизни. «Я сам был тем, — смиренно признался он, — кто больше всех тиранил меня в моей жизни. У меня нет выбора. Мне становится не по себе, когда я думаю о том, как под тяжестью моего тела согнутся четверо мужчин. Среди четырех миллиардов живущих смерть отыскивает взглядом меня, аж шею выворачивает. Несмотря на то, что у нее хватает дел в Сальвадоре, она слышит мое тягостное сопение».
«Я потому так часто включаюсь в опасные для жизни маневры, — говорил он, — что меня не покидает надежда: когда-нибудь мне удастся совершить самоубийство под видом несчастного случая, чтобы меня не зачислили в категорию самоубийц и не говорили обо мне как о человеке, который наложил на себя руки».
«Временами, — рассказывал он, — я прохаживаюсь мимо магазина медицинского оборудования, на мгновение задерживаюсь у витрины, на которой выставлен череп, и, содрогнувшись от ужаса, спешу продолжить свою прогулку. Но, сделав десяток-другой шагов, прихожу в себя, возвращаюсь и надолго застреваю перед витриной с мертвой головой».
Крестьянка из деревни на горе рассказывала, как в тринадцать лет ей приходилось идти за плугом, влекомым волами, а ее теперешний зять погонял кнутом и ее, и волов. На войне этот зять, бывший эсэсовец, потерял руку, которой мог бы бить ее, русскую девушку. Теперь он сидит по вечерам в трактире, его черная костяная рука лежит на столе между кружкой с пивом и игральной картой. На своем мундире он раньше носил нашивку с двумя мертвыми головами.
Несколько лет назад она потеряла одного из своих детей. Старший сын был учеником каменщика, он упал со строительных лесов, сломал ноги. С тех пор, выпивши, чуть на стенку не лез. Она сказала, что у него было кровоизлияние в мозг, с годами болезнь прогрессировала и в конце концов сгубила его. Он мог бы тогда и не забираться на леса, так как был на стройке учеником, а ученикам не полагалось подниматься на леса высотой больше полутора метров. Но ему задали работу на восьмиметровой высоте. Он упал, провалился в подвальный люк и сломал обе ноги. Его мастер пришел в больницу и сказал: «Вот тебе сотня шиллингов, и никому не говори, что забирался высоко». Парень взял сотню, и, когда медсестра заполняла больничную карту, с его слов была сделана запись о падении с небольшой высоты. «До сего дня, — продолжала крестьянка, — этот его наставник за версту меня обходит. Его вина гложет, из-за него я потеряла сына».
На телевизоре — цветная фотография ее покойного сына, рядом — ваза со свежими цветами и огарок свечи в кованом железном подсвечнике. Выше, на стене, возле плетеного блюда, висят три пряничных сердца и медали призера лыжных чемпионатов.
Он спросил, почему ее сыновья с детства не научились говорить по-русски. Она ответила, что пыталась научить старшего, с которым случилось несчастье, но ей запретили. В деревне и так не жаловали русскую. На нее изливалась ненависть местных русофобов, особенно тех, что вернулись домой с войны.
Над могилой ее сына они стояли рядом. Он обратил внимание, что на надгробном камне — та же фотография, что и в доме, где она установила на телевизоре своего рода надгробие погибшему юноше. По вечерам, занимаясь шитьем, выпечкой хлеба и сбиванием масла, она время от времени поглядывает на голубоватый матовый экран, но чаще всего тянется взглядом выше — к цветному фотопортрету своего покойного сына.
«Восемь смертей, — сказала она, — пережил этот дом». Семь раз прокричал накануне сыч, только не возвестил смерть ее сына, который умер в отделении интенсивной терапии одной из зальцбургских клиник. «Я хотела повидать его там и после смерти, да врачи не пустили, потому как все, дескать, в этом отделении лежат голыми. Я и в гробу-то его не видела, даже не знаю толком, кого мы тут похоронили. Каждый день молю Господа за своих детей…»
Когда сыч домовый плачет, точно ребенок, это — к беременности или к родам. Однажды, стоя на балконе, она услышала плач сыча и стала ощупывать живот. Спустя несколько дней пошла к врачу, и тот подтвердил, что она в положении.
Двух детей она потеряла еще до родов. «Наверное, это были девочки. А девочек носить мне, видать, не суждено. Первый раз я надорвалась на работе и почувствовала, как внутри будто лопнуло что-то. Потом кровь по ногам потекла. Другой раз неловко изогнулась у очага, и опять во мне как будто что-то порвалось…»
Она рассказала про одну батрачку, которая скрывала свою беременность вплоть до самых родов, стягивая живот шнурами. Ребенок родился с уплощенным, словно помятым лицом и протянул шесть лет, так ни разу и не встав на ножки до самой смерти за прутьями детской кроватки.
Первенец появился здесь, в усадьбе горной деревни. В девять утра женщина почувствовала схватки, а родила только в половине второго, хотя головка показалась еще до часу дня. «Опять потекла кровь. Акушерка прямо пригоршнями вычерпывала из вмятины на клеенчатой подстилке». Первые две недели на мальчика страшно было смотреть, голова как огурец, глазки гноятся. «Но я не хотела в больницу, боялась, что малютку могут ненароком подменить».
Стеля постели, она укладывала посередке большую куклу, обряженную тугим красным шелком. «Это мне крестник подарил», — пояснила она. Когда стелить постели не было нужды, кукла лежала на диване или на детской кроватке возле тумбочки.