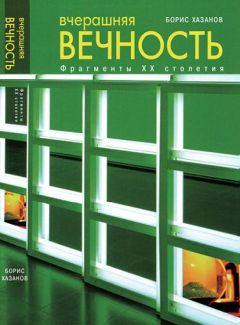Борис Хазанов - Вчерашняя вечность. Фрагменты XX столетия
Само собой, ему хочется верить, что если он не находит себе места в обществе, то виной этому гнусное общество. Виноват, однако, он сам – в том, что он не нашёл в себе мужества подняться над ним, каким бы ни было это общество.
Его неудачи – очевидное следствие его бесхарактерности. Он прав, называя себя “некто”. Такие люди бывают упрямы, вот почему он долбит своё – пишет, пишет, и всё без толку. Да, таков он, этот герой, с его желеобразной, как студень, биографией.
Отсюда зыбкость его самосознания. Этот Некто чувствует себя неуверенным; избегая местоимения “я”, предпочитает обращаться к себе от имени Другого и больше всего любит говорить о себе в третьем лице. Погружаясь в сумерки своего сознания, он теряет границу между кем-то другим и самим собой. Поистине есть что-то раздражающее в этом отсутствии твёрдой почвы; всё повествование становится ненадёжным. Вывод неутешителен: абсолютной, незыблемой и несомненной действительности в его романе, как в кабинете зеркал, не существует.
3
Вместо того чтобы отдаться своему воображению, он дрессирует его, и оно, как учёный медведь, покорно проделывает все штуки, каких ждут от него. Вместо того чтобы честно воспроизвести свои сны, он подправляет их, не слишком заботясь о верности своих имитаций. Он раб своего интеллекта, который “лучше знает”, что такое сон, и диктует свои указания воображению.
Подсознание, едва лишь он пытается его осознать, становится артефактом; сон денатурируется, как белок под воздействием кислоты, едва только, пробудившись, ты спешишь зафиксировать его на бумаге.
То-то и оно, что все попытки отказаться от вмешательства разума напрасны, ибо мы не в состоянии обойти его алгоритм – грамматику; мы не можем выражаться иначе, как при помощи языка; автоматическое письмо – сапоги всмятку; “поток сознания” оборачивается всё той же литературой; задача преодолеть деспотизм грамматики внутри самой грамматики и освободиться от контроля рассудка, не теряя рассудка, – кажется неразрешимой.
Психоделик, о котором – о, как давно это было, – рассказывала Валентина, которым однажды, один-единственный раз, угостила (опыт, впоследствии вычеркнутый из романа), не освободил его от сознания, но лишил обособленной личности и разрушил привычные связи между вещами. Это не был тот дивный сон, который она обещала любовнику, и не рай, воспетый Бодлером, но какое-то особое бодрствование. Бывший заключённый, он воспользовался привычной метафорой: сознание вышло на волю из тюремной камеры своего “я”. Это было внеличное сознание, присущее разве только божеству. Возможно, и она переживала на свой лад нечто подобное.
В этом состоянии они любили друг друга; комната превратилась в подвал без стен, в трюм океанского корабля, где плескались волны; возлюбленная отождествилась со снадобьем, он – с действием снадобья; она стала мужчиной, сам же он ощущал себя огромным влагалищем; он лежал внизу, на дне корабля судеб, до отказа заполненный ею, закупоренный огромным фаллом; но фаллом был и он сам; она находилась внутри, но и он каким-то образом оказался внутри, – разрешение не наступало, и они лишь измучили друг друга.
4
Нетрудно заметить, что, пытаясь оправдать свою бесхребетность, он ищет и находит алиби: это – “эпоха”. Он чувствует, как зловонное дыхание века обдаёт его прозу. Некогда, говорит он себе, герой романа был субъектом истории, а теперь он лишь её жертва. Смешно и подумать о том, чтобы противостоять абсурду: мутный поток истории сбивает повествователя с ног. Романист прыгает по камням, мечтая добраться до берега, – тщетная надежда!
В чём же, спросил он, оправдание твоей разлохмаченной жизни, в чём её смысл? В литературе? Он пожимает плечами. Может быть, в любви? Ответа нет. И он задаёт себе (правильней сказать – тому, другому, сибариту на соломенном тюфяке) нелепый вопрос, был ли он достоин женской любви.
Как выглядел он в глазах женщины? Худой, костлявый – вызывает сострадание. Скрывающий своё прошлое – пробуждает любопытство. Высокий, выше среднего роста – что даёт основание рассчитывать на большой член. Неловкий, робкий, стеснительный, не умеет подать себя, не в силах себя защитить, ничего в жизни не добился. Пробуждает материнские чувства. Из тех, кто, сам того не ведая, ждёт, когда им завладеют.
5
Только что ты сказал: мы любили друг друга; двусмысленное выражение. Как ров с водой и стены окружают рыцарский замок, так замок любви защищён от того, что обозначается этим же словом, но – вовсе не любовь. Таково противостояние любви и секса в осаждённой душе подростка. Но оправдывать платоническую любовь, когда тебе пошёл уже который по счёту десяток? Любить состояние влюблённости, а не ту, кто стала твоей избранницей?
Он вновь расписывается в своём безволии. В своей трусости. Ибо что же иное боязнь совокупления, как не бегство от жизни?
Любовь, думает он (и вспоминает увлечение глупенькой Наташей), это смесь поклонения и страха: поклонения девической прелести и страха соединиться с ней. Можно было бы сказать, что любовь – это избирательная импотенция. Означает ли это, что, vice versa, отвага, с которой мужчина овладевает женщиной, выдаёт недостаток любви? Мы во власти мифа, в каком-то смысле необходимого для мужской души и который кастрирует мужчину психологически, – мифа женской неприкосновенности и возвышенной чистоты. Любовь, говорит он себе, – это смесь поклонения и боязни оскорбить любимую покушением на её плоть. Итак, ничего не изменилось со времён Платона, вновь и вновь мы противопоставляем небесную Афродиту площадной, мечту и плоть, верх и низ.
Эти женщины, думает он (и вспоминает “суд”), воображают, будто они живут собственной жизнью; попробуй-ка возразить, что они существуют лишь в твоём воображении; но, в конце концов, и сам я, не правда ли, – плод моего воображения. Эти женщины правы; в сущности, это была всегда одна и та же женщина, которая хотела одного и того же – невозможного: чтобы её любили “не просто так”, а в постели, но и не просто хотели с ней переспать, а чтобы это была любовь; развести любовь и соитие она не могла. Оттого ли, что женщина – цельное существо, в противоположность мужчине? Оттого ли, что двусмысленность, игра в прятки, искусство обнажиться, оставаясь одетой, – главная черта её натуры? Или, наконец, оттого, что эта двусмысленность, двуязычие жестов, улыбок, взглядов не противоречит её цельности? И когда оказывается, что примирить ангельское и зверское невозможно, она воспринимает это и как надругательство над чувством, и как унижение плоти. Высшая тайна любви оказывается вполне банальной. Но стоит только её разоблачить, как банальность оборачивается – тут он вспомнил Машу, и ночную дорогу в лесу, и сверкающий ковш Медведицы – тайной.
6
Суд, происходивший на самом деле, то есть в романе, заставил его задуматься, удалось ли ему взглянуть на женщин их собственными глазами. Недостижимая цель литературы – ведь для этого нужно было отказаться от собственного языка. От того языка, которым мы только и располагаем. Есть ли у женщины собственный язык? Всё, что рассказывается в романах, рассказывается мужчиной, а если рассказывает женщина, то и она пользуется мужским языком. Означает ли это, что женщина непознаваема? Или – что она говорит языком, который вовсе не язык и подобен сновидению, где всё подчинено абсурдной логике, где смысл бессмыслен и всё пронизано не поддающимся описанию чувством? Или её попросту нет? Только ради Бога, никакой мистики. Будем довольствоваться как рабочей гипотезой презумпцией её существования. Будем считать, что мы имеем дело лишь с ролями – матери, любовницы, куртизанки, – которые она разыгрывает перед зрительным залом мужчин. Романист, сказал он себе, может лишь подражать женщине, как артист на женских ролях, как ловчий свистит голосами птиц.
Он вспомнил первое в его жизни столкновение с этой загадкой: то была девушка в бокале шампанского. Поразительно, что она сразу явилась тебе во всём своём естестве. Нагота не должна была оставить никаких секретов. На самом деле – теперь он это хорошо понимает – она-то и захлопнула перед ним врата тайны. “Comment la trouvez-vous, cette peinture?” Как тебе нравится эта картина? Что он мог ответить? Впервые она заставила мальчика почувствовать, что здесь “что-то не то”. Другими словами, почувствовать себя – до всякого вожделения – мужчиной.
Ему пришло в голову, что если при каждой встрече с незнакомой женщиной его мозг мгновенно, как при вспышке магния, фотографировал сцену обладания, то смысл этого обладания можно переписать иначе: он искал поселиться в ней. То, что именовалось жилплощадью, во имя которой сражались всю жизнь, было не чем иным, как женщиной! И расплатой за право жительства был он сам, точнее, фаллос, его единственное богатство. Ему вспомнилось, как, бездомный и бесправный, в лагерном одеянии, он явился на старую квартиру, и его встретила Валентина. Вспомнилось и тёмное осеннее утро в тот день, когда им предстояло отправиться на поклон к всемогущему Алексею Фомичу, и как, нежась в постели, она жадно разглядывала этот предмет, эту его суть, играла с ним, словно кошка с мышью перед тем, как насладиться своей добычей. Значит, любовь – это кража? Его подруге хотелось в буквальном смысле слова похитить его член, сделать так, чтобы он навеки остался в ней, и наслаждение плоти, наслаждение властью хозяйки своих хором, собственницы и госпожи, не прерывалось бы никогда.