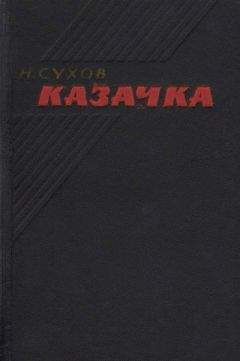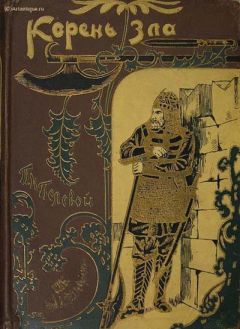Николай Сухов - Казачка
II
Тридцатый полк стоял все еще там, где его застала Надя, — в местечке Бриены. Как ни мало нравилось казакам это приболотное чужое и голодное местечко и как ни плохо был организован отдых, все же здесь они были в тылу, и казаки хоть и переругивались порой от скуки, однако помаленьку оправлялись, приводили в порядок и себя и коней.
Но на свете, как известно, всему есть конец. Пришел конец и мирному житью полка — правда, не совсем тот, какого ждали служивые. Однажды под вечер из штаба дивизии пришла телефонограмма: подготовиться и походным порядком — на фронт. Приказ еще не был объявлен по сотням, но все уже знали о нем. И сразу все пошло колесом под гору.
Казаки сделались злыми, угрюмыми. Лица у всех как-о потускнели и постарели. В третьей сотне пытались было начать митинг, но командование запретило: некогда, мол, заниматься болтовней, надо осмотреть снаряжение, проверить ковку коней, оружие.
Улицы местечка словно онемели: не стало слышно ни смеха, ни говора, ни даже грустных, безотрадных песен, взращенных тоской по родине. Лишь во дворах шла потаенная перебранка. Изредка по улице, спотыкаясь впопыхах и хлопая о голенище болтавшейся шашкой, пробегал посыльный или во весь опор скакал всадник, охаживая лошадь плетью, и глухие шорохи и звуки, будя в душе тревогу, долго дрожали тогда в сумеречной, присмиревшей улице.
Казаки, квартировавшие вместе с Федором и Пашкой, в этот день все были в сборе — в наряд из них никто не попал, что случалось редко с того времени, как коней вывели на подкормку в болото. Не было пока одного лишь Федора: после обеда он ушел в комитет и, видно, задержался там. Надя принесла кипятку с кухни, и служивые, разместившись вокруг стола, хлебали вприкуску чай. Собственно, не чай, а горячую водичку, еле-еле окрашенную буроватым настоем, и не вприкуску, а, скорее, вприглядку.
В центре компании, в переднем углу чаевничал Жуков. Не поднимая редких вылинявших ресниц, под которыми набухала злоба, он втыкал в угол рта, под усы кусок сахара, крошечный, завалявшийся в сумах до черноты, осторожно грыз его, но кусок почти не убывал, Хлебал он молча и ожесточенно. Нежданный приказ о выступлении он воспринял, пожалуй, всех болезненней. Разговоры о том, что старых казаков вот-вот уволят, не затихали до последнего часа. И Жуков, старый казак, так уверовал в это, что неделю назад послал жене письмо с хозяйскими наказами: ни в коем разе, мол, и никому не сдавай сенокосные деляны — приеду сам косить.
Пашка Морозов казался беззаботным и, как всегда, веселым. Но чрезмерная словоохотливость, даже для него чрезмерная, выдавала его волнение. Он по привычке без умолку шутил, острил, но шутки и остроты его на этот раз успеха не имели. Казаки мрачно уставились всяк в свою кружку и дружно сопели. Наливая себе кипятку, Пашка смешливо сощурился, заглянул в чайник:
— Чаек-то, а! Разлюли-малина! Перловский номер четыре, высший сорт, ей-бо! Ты чего ж, сестра, сложила руки? Не хочешь? Что так? Зря… А поговорка-то не дурно лежит: барин пьет — пока дух есть, купец пьет — пока цвет есть, а казак с мужиком — пока есть… в чайнике что-нибудь, на донышке.
Кто-то из казаков рассмеялся, а Жуков громыхнул своей чуть ли не полведерной кружкой и недовольно заметил:
— Будет уж тебе, господин урядник! Ну и язык, прости господи, чисто помело. Хоть чудок помолчи.
— А чего ж молчать, ты чего пригорюнился? Захотел домой, хлебать помой? Погоди, другую щеку разрисуют тебе, тогда и поедешь. А то что ж так-то. На одной половине есть картинка, а на другой нету. Некрасиво так-то.
Сидевшие за столом, как по сговору, все сразу взглянули на сослуживца и как будто впервые увидели его. На правой щеке его от обкусанного уса и до ушной мочки синел глубокий извилистый шрам в заросли никогда не выбриваемой дочиста бурой щетины. Вверх и вниз от шрама по стянувшейся коже сеткой расплелись морщины, и от этого одна часть лица казалась старше другой.
— Тебе бы, идолову сыну, такую картинку! — беззлобно ругнулся Жуков.
Надя, украдкой вздыхая, посидела рядом с братом и, отказавшись до прихода Федора от чая, вышла к воротам. Известие о выступлении полка ее взволновало не меньше, чем казаков, и ей не терпелось увидеть Федора. До сегодняшнего дня они так и не решили до конца: как быть им дальше, куда ей податься. Все откладывали да выжидали. Теперь уж ни откладывать, ни выжидать нельзя, надо что-то решать. Федор, уходя после обеда, не предупредил ее, что может задержаться, и Надя ждала его с минуты на минуту.
В улице по-прежнему не было ни души, словно вымерли все. Даже местные жители почему-то не показывались. У соседей под сараем в две струны звенела цибарка, — должно быть, доили корову. Во дворе напротив растрепанный, без фуражки и пояса, казак гонялся за обозными лошадьми, шлепал плетью по крупам. С болота тянул влажный ветер, нанося прохладу и запах гнили. Оттуда же доносились голоса людей, ржание коней и птичьи неугомонные крики. В этот крайний час дня пернатые жители болота хороводили особенно дружно: где-то в радостном исступлении зычно гоготали гуси, по малой мере глоток в двадцать; размеренно и глухо, будто в бочку, гукал водяной бык; навзрыд, подобно чибису, кричала какая-то неведомая птица…
Надя слушала эту приглушенную расстоянием музыку, знакомую с детства, смотрела на сиротливую зарницу, робко и нежно мерцавшую над болотом, и сердце ее все крепче сжимала грусть. Как бы хорошо в такой ласковый вечер, думалось ей, быть не здесь, непрошеным у чужих ворот гостем, а дома, на хуторе! Быть там вместе с Федором, Пашкой и со всеми одновзводниками, такими славными, душевными. Поджидать бы Федора там, в своем углу, пускай даже самом скудном, но родном и спокойном. Он, Федор, в эту пору должен бы вернуться с поля, чумазый, обожженный солнцем, в черноземной пыли, но веселый и счастливый. Она давно уже приготовила ему белье, взбила супружескую постель и уложила детвору. На сковородке у ней в масле шкварчат свежие, только что из речки, пескари; они уже пережариваются, и пора их заливать яичницей; на загнетке, рядом с пескарями, томится чай, не такой, как здесь, а настоящий, китайский иль фруктовый. А Федора все нет и нет. И она вот так же бы выбегала за ворота, нетерпеливо всматривалась бы в темноту, напрягала слух, ловя дальний перестук колес… Ведь так немного ей надо от жизни!
За невысокой из планок изгородью палисадника раздались торопливые шаги, и тут же из-за угла вынырнул Федор. Он радостно улыбался, приближаясь, но сквозь эту улыбку Надя успела прочитать на его лице горечь и затаенную тревогу.
— Ждешь? — сказал он и, взяв ее за руки, наклонил свое разгоряченное ходьбой лицо к ее, прохладному и свежему.
— Долго как!..
Да все… не слава богу. То одно, то другое… так и идет чередом.
Надя была готова к печальным сообщениям и ждала их, уткнувшись лицом в его чуть влажную от пота гимнастерку, вдыхая такой милый для нее запах его тела. Но он почему-то молчал. Видно, думал, что она еще ничего не знает.
— Казаки дома? — спросил он.
— Давно уж все дома. Чай пьют.
— А ты?
— Я? Нет еще, не пила. Тебя поджидаю.
Он ласково положил ей на плечо руку, прижал к себе.
— Заморилась, гулюшка моя, пойдем… Пойдем подзакусим немного и… потолкуем…
Как только Федор вошел в комнату, Жуков набросился на него с попреками.
— О чем вы там, в комитете, думаете, Парамонов, чем хорошим занимаетесь? Про новостишку вам известно небось? Опять, значится, как баранов, гонят нас. Все не расхлебаемся никак. О чем вы думаете? Что есть вы, комитетчики, что нет вас — один идол. Лишь головы людям морочите. Выбирали вас, выбирали…
Федор, подсаживаясь к столу, невесело усмехнулся.
— Ты, Жуков, ровно дите. Говоришь, а чего говоришь? Будто все зависит от нас. Кабы ты царем меня выбрал…
— А вы… как? У вас спрашивали согласие? Вы хоть упирались иль как?
— Ну и чудишь же ты, Жуков! — На душе у Федора было мрачно, но этот разговор его даже развеселил. — Согласие! Ведь выдумает же… Нас только упредили: коль, мол, станете дисциплину разлагать, так по шее… Было, дескать, время, спорили. А теперь крышка. Есть приказ Верховного и министра Керенского. Дело, мол, комитетов за хозяйством наблюдать, а не командовать. На это командиры есть.
Жуков злобно побурчал что-то под нос, почесал изуродованную щеку. Заметно было, что его обуревало недоверие к кому-то — не то к комитету, не то к командирам.
— А вы… как? Приказ этот видали? — допытывался он. — Может, полковой того… из своей головы?
— Видали… брат… как же, — Федор жевал кусок хлеба, и говорить ему было трудно, — Адъютант приносил. Это не одному нашему полку, и другим тоже. На позициях, рассказывают, есть уж какие-то ударные батальоны. Ударники из образованных. Вроде бы пришли к нам на подмогу добровольно. Где-то есть вроде батальон из одних баб, ударниц.