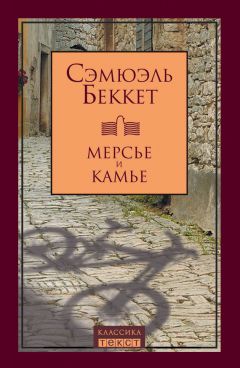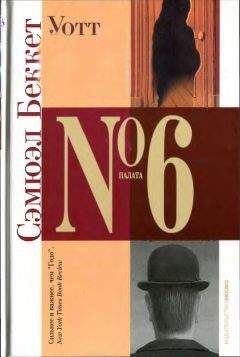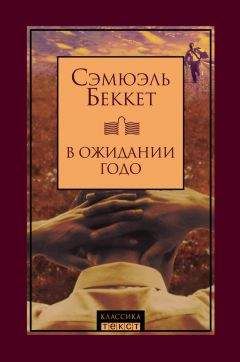Владимир Максимов - Семь дней творения
— Но это еще не все, товарищи. — Его праздничное сияние становилось почти нестерпимым. — В Тюменской области забил новый мощный фонтан нефти! Ученые утверждают, что запасы черного золота в этом районе практически неисчерпаемы!
Для Крепса это было слишком. У него даже кровь отлила от лица, и белые губы вытянулись в змеящуюся ниточку:
— Слушай, ты, поросенок, — цепляясь за край койки, он весь, словно стреноженый конь, яростно подрагивал, — если ты сию минуту не спинаешь отсюда, я буду делать из тебя клоуна. Ну!
Бочкарева уговаривать не приходилось. Полтора десятка лет, проведенных в отделении для социально опасных, научили его спасительной осторожности. Мгновенно ретировавшись, он все-таки не утерпел, — помитинговал в коридоре:
— Теряете классовое чутье, товарищ Крепс! Не радуетесь успехам своего государства! Скатываетесь в болото ревизионизма! Льете воду на мельницу!.. И потом у меня поручение к товарищу Лашкову! Его просил зайти товарищ Телегин! Товарищ Телегин серьезно болен!
Известие о болезни Митяя лишний раз напомнило Вадиму, что в последнее время тот, обычно шумный и общительный, не появлялся ни в столовой, ни на прогулке. «Друг, называется, — укорял он себя, устремляясь в телегинскую палату, — совесть иметь надо».
Митяй истощался на глазах. И без того худое лицо Телегина заострилось, сквозь недельную щетину отечно поблескивала кожа, сухое и короткое тело его под одеялом, натянутым до самого подбородка, время от времени судорожно дергалось. Рядом с койкой, сложив тяжелые руки на коленях, сидела старшая сестра, и не было в ней сейчас ничего от той тети Падлы, одно появление которой в палате нагоняло на окружающих тоску и оторопь. В нескладном ее облике сейчас явственно проступало горе, неуловимо сообщавшее ее унылым чертам подобие доброты и женственности.
— Ты посиди с ним, милок, пока не заснет. — Вставая, она старалась не глядеть в его сторону. — Сделаю дела, приду сменю.
Грузные шаги Нюры затихли в коридоре, и Вадим, опускаясь на еще теплый после нее табурет, мысленно озадачился: «Поди угадай, кого клясть, на кого молиться!»
— Переживает. — Часто и прерывисто дыша, Митяй болезненно усмехался из-под полуопу-щенных век. — Баба — она баба и есть. Хлебом не корми, пожалеть дай… А что пришел, спаси-бочка… Совсем разворошило меня, прямо страсть… Пропил машинку свою дочиста… Не тянет…
— Пить тебе не надо, Дмитрий Палыч. — У Вадима тягостно засосало под ложечкой. — Совсем не надо.
— Видать, не надо, — миролюбиво согласился тот. — Слякотно на душе, Вадюха, а выпьешь, вроде глаза прорезаются: птахи поют, в листках запах разный, жить хочется! — От возбуждения он даже приподнялся на локтях. — Так бы и не протрезвлялся совсем.
— Лежи, Палыч, лежи, на раскрывайся.
— Боюсь я, Вадюха, смерти боюсь. — Перегнувшись через кровать, Митяй уткнул ему взлохмаченную голову в колени. — Как одна секунда, вроде и не жил еще… Спину холодит — так страшно… Завязать было хотел бродяжество свое. С Нюркой вот договорился: выйду — сойдусь. По закону сойдусь, а не как сейчас… Неужто не выберусь, Вадюха? Обида-то какая!
Неожиданно резко Телегин откинулся на спину, мгновенно обессилел и затих. Спасительный сон снизошел к нему, и он тревожно заснул, но и у спящего у него нетерпеливо шевелились губы, будто в последнюю минуту он не успел досказать Вадиму чего-то самого главного, самого обязательного.
VIIСреди ночи Вадима разбудил Бочкарев:
— Товарищ Лашков, товарищ Лашков, — шёпотно шелестел он над его ухом, вас зовет товарищ Телегин. — В полутьме едва освещенной палаты желтые зрачки Бочкарева мерцали вещей торжественностью… — Только, пожалуйста, поскорее. Ему, кажется, очень плохо…
Когда он, с гулко бьющимся сердцем, очутился у кровати Митяя, тому было уже ни до кого. Отвисшая челюсть его безжизненно касалась плеча, жиденькая фигурка под одеялом вытянулась и отвердела, в холодных пальцах остывала скомканная простыня.
Так близко, так непосредственно Вадим видел смерть во второй раз в жизни, но снова, как и в тот день, когда ему пришлось столкнуться с нею впервые, она не столько испугала, сколько заворожила его своим немотным умиротворением. Казалось, человек, перейдя смертную черту, приобщился там за этой чертой — к чему-то такому, что, наконец, примиряло его со всем и со всеми.
Перезимовав тогда на Хантайской перевалочной базе в качестве полурабочего, полусчетовода, Вадим ранней весной решил, на свой страх и риск, пешком добраться до Игарки. Предупреждения о том, что этим временем года даже бывалые охотники остерегаются выбираться в тайгу, не оста-новили его и он, побросав в рюкзак кое-что из еды и бельишка, двинулся по прибрежной хляби лесотундры в сторону Енисея. Многочисленные ручейки, из тех, что летом просто перешагивают, в эту пору разбухли до размеров речек средней руки, и каждую из них приходилось преодолевать по всем правилам саперного искусства.
Когда, использовав вместо веревок исподнее и единственную запасную рубашку, Вадиму удалось соорудить из двух плывунов нечто вроде плота и, с горем пополам, переправиться через первый поток, он понял, что поход этот оборачивается для него авантюрой, причем безо всякой надежды на успех. Тусклые облака плыли над головой, почти задевая верхушки ржавых лиственниц. Река еще пестрела кое-где медленно скользящими льдинами. Топь под ногами сочилась и пружинила так, что каждый новый шаг давался все тяжелее и медленней. Но самым мучительным и невыносимым было ощущение собственной затерянности среди всего этого свинцового безмолвия.
Очередной поток Вадиму удалось миновать, поднявшись до его верховья, вброд. Но возвраще-ние отняло у него последние силы, и поэтому, когда перед ним, после трех с лишним часов выматывающего душу хода, возникла, как наваждение, новая водная полоса, он уже утратил способность к сопротивлению. И он упал плашмя, вниз лицом на береговой галечник и заплакал, завыл в голос от своего бессилия перед этой — всего каких-нибудь десяти-двенадцатиметровой в ширину — лентой тягуче-мутной речонки. Но вдруг, уже чуть ли не в полубреду, им властно овладело ощущение близости жилья. А некое подсознательное постижение яви, когда в человеке предельно обостряется вся его жизнеспособность, укрепило в нем эту спасительную уверенность.
И тогда Вадим последним, почти нечеловеческим усилием воли заставил себя подняться и дойти до самой кромки потока. И здесь, со вздохом веры и облегчения, он увидел слева от себя, метрах в пятидесяти выше по течению, огромную льдину, выброшенную, видно, сюда ранним половодьем и перегородившую собой весений сток. По ней, как по мосту, он и перешел на другой берег, откуда, на гребне ближнего распадка, перед ним возникло, судя по усадебному запустению, безлюдное зимовье.
Но стоило ему лишь потянуть на себя дверь, как тотчас вялый, с болезненной хрипотцой бас заполнил едва освещенное крошечным оконцем логово:
— Закривай бистро… Холодно… Вьетер…
Еще и не обвыкнув в царившем здесь сумраке, Вадим, по знакомому всему хантайскому побережью акценту, узнал Каспара Силиса — промысловика из латышей спецпоселенцев. Высланный в эти края в сорок пятом Каспар, с его цепкой крестьянской хваткой, быстро обжился в новых и неласковых для себя местах, и вскоре аборигены только руками разводили, сравнивая Каспаровы заработки со своими. На зависть удачливо промышлял он рыбой и дичью, в песцовый же сезон, там, где матерые старожилы считали десяток шкурок в неделю за счастливый фарт, Силис в один только суточный обход брал, как правило, до пяти штук, не менее. И сколько Вадим ни пытался выследить хитрого латыша, чтобы засечь систему его секретов, тот без особого труда, как бы даже играючись, неизменно ускользал от слежки. А потом, с богатой добычей заворачивая на базу передохнуть и обогреться, только посмеивался в сторону Вадима:
— Не добьить тебе писець, Вадья. Не идьет в твой капкан… Мой хочьет… Мой ему лутче…
Теперь же Каспар лежал перед Вадимом на старом своем овчинном полушубке, весь в крупной испарине, и распоротый от самого носка вдоль голенища пим валялся у его ног. Правая ступня была наспех закутана случайным тряпьем.
— Зажигай печка, Вадья, гриеться будьем. — Лихорадочная воспаленность не погасила привычной усмешки в его глазах, скорее наоборот, только обострила ее и сделала еще более вызывающей. — Пьесець капкан ловиль, тьеперь сам капкан попаль…
Когда в давно не топленной печке весело и гулко вспыхнул огонь и Вадим, буквально содрав с ноги Каспара скоробившийся от засохшей крови носок, осмотрел его раздробленную зубцами волчьего капкана ступню, он полностью осознал всю безнадежность ситуации, в которой тот оказался. Жухлая, в чешуйчатой коросте кожа уже исходила темно-бурыми, расплывчатой формы пятнами. Не надо было быть большим спецом, чтобы безошибочно определить все признаки газовой гангрены. От ближайшего ненецкого спецпоселения Плахино их отделяло не менее сорока километров, густо пересеченных осатаневшими из-за такого напора ручьями. И если в одиночку Вадим едва-едва осилил чуть больше половины этого расстояния, то, чтобы двинуться дальше вдвоем с обессилевшим Каспаром, — нечего было и думать.