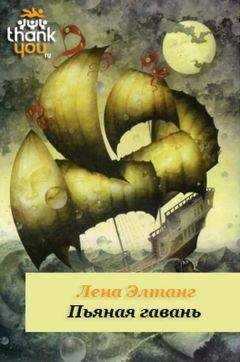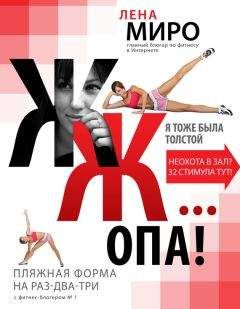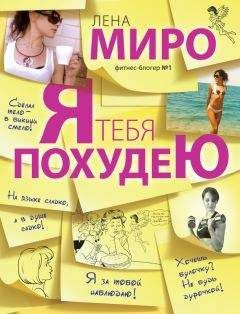Лена Элтанг - Каменные клены
Он, наверное, не помнит меня, разве что как старшую сестру Эдны Л, похитительницу теннисных мячиков. Он не помнит меня, но от этого пики сияют не менее остро, а кони ржут не менее грозно. Что ж, я сама подниму мост и открою крепостные ворота.
Бедная серебристая Синтия, высокое смеющееся зеркало, в котором я первый раз увидела себя всю. Вот тебе, Синтия, твой репейник.
Я посмотрела на календарь, взяла открытку с видом на остров Джури и написала:
Мистеру Брана, в собственные руки. Вишгард, «Хизер-Хилл».
Дорогой Сондерс, не найдется ли у тебя времени заглянуть в гостиницу «Каменные клены», что возле старого порта? Говорят, ты занимался налогами в заведении Лейфа.
Так вот, мне нужно бы с тобой посоветоваться. Забудем старое?
Заранее спасибо, Александра Сонли.
***lumen ejus obscurat [110]
Зачем я пишу дневники, да еще начинаю второй, не кончив первого?
Затем, что первый я пишу для мамы, а второй для Луэллина. Затем, что закончить не смогу ни тот, ни другой, к тому же первый пропал, один бог знает, куда он подевался. Недаром друиды не решались записывать свое учение — ни буквами, ни знаками, они не доверяли написанному и боялись, что знание распространится среди непосвященных.
Вообще-то второй дневник получился случайно: я нашла в столе еще одну каштановую тетрадку, чтобы пустить ее на записки. В ту июньскую ночь, когда мои собаки уснули, я онемела — не то от злости, не то от смятения, будто Эней в четвертой книге Энеиды. [111] А что мне было делать? Надо же было хоть как-то выяснять отношения с хаосом.
Я собиралась носить тетрадку при себе, но в тот же день Прю подарила мне блокнот на шнурке, а потом я привыкла и стала писать на всем, что под руку попадалось. Тетрадка-двойник пригодилась для другого, и теперь ее читает Луэллин, попавшийся на крючок бессознательного, ведь вы и теперь читаете, душа моя? Снимите свои золотые очки и посмотрите в лицо норне Верданди, она не любит отсвечивающих стекол.
Как много веры тому, на чьих руках звенят цепи, астролог, не побывавший в тюрьме, не находит признания — ради успеха надо чуть-чуть не погибнуть! [112]
Это если верить Ювеналу, как вы любите говорить, дорогой инспектор.
Зачем Луэллин приезжает сюда — чтобы разоблачить меня? чтобы обнять меня? чтобы позвенеть моими цепями? чтобы погибнуть? а может, он хочет, чтобы я помыла его пятки?
Он так погружен в себя, в свою бесцветную виноватую осень, что самое время стукнуть его надутым бычьим пузырем по голове, как это делали с мыслителями слуги мыслителей на придуманном острове Лапуту. [113] Он верит в то, что я пишу, я пишу то, что он хочет прочесть, мы оба заняты делом, а значит, я не могу остановиться.
Впрочем, он чему угодно поверит, этот разноглазый лондонец, он из тех, кто проливает воду под стол, едва зайдет речь о пожаре, и чешет за ухом средним пальцем, смоченным в слюне, чтобы отогнать тревожные думы. Напиши я, что триста лет жила в облике дикого быка, двести — в облике дикой свиньи, и еще сто лет была лососем, он бы даже не поморщился.
Помните проститутку Камиллу, к которой некто Гантенбайн приходил, чтобы делать свой упрямый еженедельный маникюр? Стоило ему задуматься хотя бы на минуту или поглядеть на ее розовые, наглые, блестящие чулки, и он бы понял, но — зачем? Чтобы лишиться драгоценной добычи, на манер реймской сороки, укравшей кардинальское кольцо, но не удержавшей его в клюве, потому что непременно хотелось понять?
Я стараюсь поменьше понимать, понимаете?
Вы понимаете меня, инспектор?
Часть третья
ВЕДЬ МЫ НЕ МЫ
Дневник Луэллина
существуют два известных мне способа начисто отрезать от меня человека; тонким лезвием — это раз, и зазубренным — это два
ну, тонким — понятно, не успеешь ахнуть, как кровь свернулась, бинты свежо белеют и фантомные боли приседают и кланяются от крашеной двери
а вот зазубренным — это я в первый раз попробовал
вы понимаете? — она усмехнулась мне прямо в лицо на последней странице своего дневника, а я-то читал его с трепетом медвежатника, вскрывающего сейф с ожерельем брисингов!
вы понимаете меня, инспектор? я чуть не отбросил тетрадку, как отбрасывают одеяло с затаившимся в нем скорпионом, я чувствовал себя порцией, проглотившей горячие угли, [114] — уверен, что порция сделала это от злости, а не в тоске по бруту: когда же есть желание и воля, скорбящая жена всегда находит способ
выходит, я ошибся, и дневник был не стыдной тайной, не монологом перед закрытым настежь окном? нет, он был насмешливым шепотом прямо в ухо — в одно-единственное ухо! он был ведьминой заваркой, державшей меня в забытьи, он был игрой, в которой я не знал правил и бегал по поляне с бархатной лентой на глазах, обнимая то дерево, то фонарный столб, то визжащую соседку, он был комиксом для городского сумасшедшего, нарисованным сельской дурочкой, живущей на выселках
кстати, про сумасшедших — в аргентине, когда крутят указательным пальцем у виска, хотят просто сказать: не мешай, я думаю
вот и покрути себе, лу
***медленно, с гудением и дрожью, как загорается старая лампа дневного света, я увидел тот день, когда во сне проверял почту в плотницком сарае: вот он, верстак с инструментами, выложенными музейно, будто скифское золото под стеклом, долото, клещи, стамески, вот он — черный резиновый молоток!
маленькая кувалда, не оставляющая следов, атрибут бородатого суцелла, вот она, киянка, дрессер [115] с фиберглассовой рукояткой
все верно, здесь она и слепила своего смотрителя из отцовского молотка и пачки голубых альманахов гребного клуба, слепила и утопила, но я-то хорош, я должен был сразу догадаться!
ей нужна была история, а истории нужен был читатель, марионетка, наивный подслеповатый инструктор, луэллин с резиновым молотком вместо головы
но обидно не это, а то, что читателем мог стать кто угодно, я просто подвернулся ей под руку, под эту руку из белой глины, сухую и бестрепетную — кто угодно мог зайти в эту комнату, пошарить под подушкой, сесть на холодный пол, и все про нее узнать, и о тьме ее проделок послушать, в том числе и высосанных из белого глиняного пальца
нет, этого я ей не прощу, война, война
да здравствуют олений рог, зазубрины и узкая канавка для стока крови, где рыбак из бонифачо написал бы: сдохни от этой раны! а я вот ничего писать не стану, и читать ничего не стану, стану жить в небесном саду и допивать свою початую бутылку аньехо, гори оно все бузинным огнем
ну и здоров же ты врать, луэллин элдербери
стоит тебе представить это зябкое лицо и свет из круглого окна в крыше плотницкого сарая, желтоватый свет, горячей водой сбегающий по шее и по животу, — у нее выпуклый живот! как у майолевской помоны! стоит тебе представить это, как хочется тут же вернуться в гостиницу, сесть в плетеное кресло, даже если оно до сих пор занято покойной миссис сонли, открыть книгу элегий и с выражением читать вслух из секста проперция:
не благонравием, нет, ворожбой одолела злодейка,
кружится, водит меня нитью своею волчок
любопытство играло мной, будто питьевой фонтанчик — теннисным мячом, до тех пор, пока тот не намокнет и не свалится, отяжелевший
теперь, когда я начитался всласть и знаю о ней все — и то, что она сама хотела мне сказать, и то, что было спрятано под плитой из песчаника, теперь, когда я намок, отяжелел и свалился, самое время махнуть рукой на весь этот вишгардский балаганчик и вернуться домой как ни в чем не бывало
чего я, собственно, хотел?
узнать, каким меня видит саша сонли, увидеть себя издалека — с ее дикого и обрывистого берега?
а может, я хотел оказаться там, где она хранила свою четвертинку, между ее щекой и ладонью, подсунутой под подушку — может быть, я хотел спать с сашей сонли?
нет, с какой стати мне этого хотеть? то, что я о ней знаю, и так рассказывают только в постели, остывая от утренних поцелуев, когда время теряет четкость и мерцает, будто экран телевизора, когда счет за него забыли оплатить
чего я, собственно, хотел? я смотрел в замочную скважину чужого сознания, нагнувшись в неудобной позе, проклиная немеющие руки и шею, а оттуда на меня смотрел спокойный, изучающий оливковый глаз, который умеет становиться горчичным, когда приходит время охоты
а дальше за дверью прятались лисья улыбка и пышный хвост
Дневник Саши Сонли. 2008
Vain was the help of man. [116]