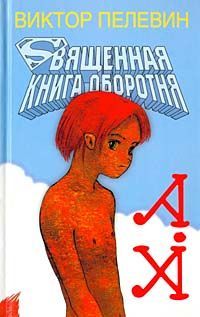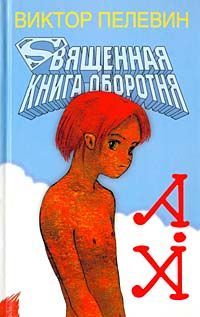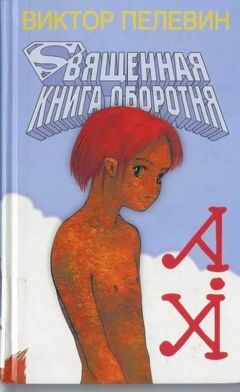Артур Соломонов - Театральная история
– Православная церковь обязана искать новые формы воздействия, – уже тише, но упрямо твердил отец Никодим. – Иначе мы станем союзом бабушек. И в меньшей степени дедушек, – улыбнулся он и произнес негромко, но твердо: – А потому нам нужен православный театр. Первый в истории России. И мира.
Ипполит Карлович глянул на него непроницаемо-серыми глазами:
– А может, тебе лучше заняться. Православной нефтедобычей? Я могу пособить. Я это даже легче себе представляю. Чем то. О чем ты говоришь.
Отец Никодим был оскорблен. Он впервые высказывал свои недооформленные идеи, свои мечты. И прекрасно понимал, что говорит нечто на грани не только абсурда, но и ереси. И когда услышал от другого человека то, о чем подозревал и сам, – обиделся. И тем самым опроверг одну из самых глупых в мире сентенций: на правду не обижаются. Но самое главное, самое печальное заключалось в том, что он понял: Ипполит Карлович не верит в него как в религиозно-театрального реформатора.
– Знаете что… – упавшим голосом сказал отец Никодим, – дальше я пойду пешком. Извините, если сказал лишнего. Спаси Господи.
Он развернулся и зашагал прочь. Даже следы, которые он оставлял на снегу, показалось Ипполиту Карловичу, излучали обиду. Шофер вопросительно глянул на босса: будем догонять? Или отпустим? А тот, хоть и был утомлен разговором, смотрел вслед удаляющемуся священнику с неостывающим интересом.
– Вот человек нескучный. Да? – обратился Ипполит Карлович к шоферу.
– Да, – ответил тот со скучающим видом. Ему давно уже хотелось домой. Он почти ничего не понял из вдохновенной речи отца Никодима. Ему представился театральный зал, в котором вместо артистов на сцену выходят священники и произносят проповеди. А так как шофер театр не любил и в церковь не ходил, то идея слияния двух мало интересующих его учреждений развлекла его лишь на очень короткое время. И то только потому, что уж очень неожиданно и шумно выступил этот почти всегда спокойный батюшка. И как при этом дымил!
– Не будем его. Беспокоить. Пусть мечтает. А мы домой.
Шофер с облегчением нажал на газ, и через десять секунд они проехали мимо отца Никодима. Ипполит Карлович помахал ему рукой и улыбнулся. Священник даже не повернулся в его сторону.
– А можно я теперь буду тебя называть отец Кинодим? – крикнул Ипполит Карлович, но ветер унес его дерзость в противоположную от священника сторону.
«А Сильвестра надо прижучить, – подумал Ипполит Карлович. – Затеял какую-то мерзость. Назначил Наташу. Всему миру меня на посмешище выставляет. Значит, спектаклем этим не дорожит. Это ясно. А Наташа одарена! – "недоолигарх" улыбнулся. – Какой бенефис устроила в четыре утра! Настоящее горловое пение! Думала, я поверил. Вот ведь загвоздка – женский оргазм тоже требует веры. Надо бы втолковать отцу Никодиму, что веры требует не только его профессия… – Мягкий ход машины умиротворяюще действовал на Ипполита Карловича. – А как святой отец возопил, когда про Сильвестра речь зашла. Тоже почти горловое пение. Знаю я, какая причина у этого вопля. Зависть». И приятное чувство всепонимания снизошло на Ипполита Карловича. Он глядел, как снег укрывает дома, и его душой овладевал покой. И он вновь поверил, что смерти – для него – не будет.
Священник замедлил шаг. Отдышался, огляделся.
Безветренно. Тихо. Снежно.
Вдохнул холодный воздух. Остановился. Почувствовал окружающую его безбрежность. И ему стало неловко за столь истовую защиту своих идей.
Он подумал, что сейчас, в тиши и одиночестве, можно вспомнить школьные годы. Достал сигарету, зажег и стал мастерски пускать изо рта кольца. «Что я рву, что я мечу? Тихо, тс-с-с… Ведь главное случилось. Я все рассказал Ипполиту Карловичу, – думал отец Никодим, исторгая кольцо за кольцом. – Я смиренно буду ждать, какое будущее пошлет мне Бог. Смиренно…»
Театральные атаки
Их было двое – Сильвестр Андреев и господин Ганель. Они были объединены – заговором. А раз заговором – значит, и тайной.
Последние две недели после каждой репетиции они сидели в кабинете Андреева и обсуждали во всех деталях пятиминутную интермедию, которая должна начаться перед вторым актом «Ромео и Джульетты». Интермедия была призвана покрыть позором Ипполита Карловича и отца Никодима. Играть в ней должен был только господин Ганель.
Как всегда, ровно в девять зашла Сцилла Харибдовна и принесла два бокала воды: господин Ганель стал приобретать привычки Сильвестра. Он полюбил простую воду. Порой он – неосознанно – добавлял в свой голос интонации Андреева. А у себя дома давал волю подражанию уже вполне сознательно. Стоя перед зеркалом, он покрикивал: «Репетируйте, пока мне не станет интересно!» Через час проходил мимо зеркала и с презрением бросал: «Мне все еще не интересно!»
А сейчас он смотрел на Сильвестра, делал маленькие почтительные глотки и шептал:
– Об этом будет говорить вся Москва. Это войдет во все учебники… по истории театра…
– Это не войдет. Поскольку к искусству отношения не имеет, – равнодушно, как будто речь шла не о нем, отвечал Сильвестр.
– Но в книжки ваших биографов точно войдет, – господин Ганель глотал и восхищался. – Я так благодарен вам, что могу быть к этому причастным!
Эти речи не были льстивыми. Господин Ганель любил Сильвестра, а разве можно назвать лестью слова восхищения тем, кого любишь? Молитва разве лесть Богу? Это свободное выражение любви и веры. Так и слова господина Ганеля не были запятнаны подобострастием.
– Благодарен, что можешь быть причастным… – задумчиво повторил Андреев слова господина Ганеля. – Ты же и так, телепат, угадал, что я тут затеваю? Да? – улыбнулся Сильвестр, и господин Ганель улыбнулся в ответ. Со временем он научился-таки догадываться о том, что творится в Сильвестровой голове. – Ну вот. А потому и увольнять тебя уже поздно было. Что мне оставалось делать? Только, как бы сказал отец Никодим, причастить.
В такие моменты господин Ганель понимал, что перед ним капризный ребенок, которому необходимо каждую минуту доказывать, кто тут царь и бог. Проверять на прочность любовь к нему окружающих. Но когда проходили припадки инфантилизма, как про себя именовал их господин Ганель, он снова видел перед собой великого режиссера, который даже свой уход из театра хочет поставить как грандиозный спектакль.
– А вы не думаете, что будет с труппой после того, как вы уйдете?
Сильвестр разглядывал свои руки. Поворачивал – к себе и от себя – ладони, медленно сгибал и разгибал маленькие пальцы. Красноватые, с коротко постриженными ногтями, они вызывали мысли о земле и деревне, но никак не о театре и искусстве. Такие пальцы могли принадлежать сеятелю, комбайнеру, в лучшем случае – начальнику рабочей бригады. Сильвестр вспомнил, как в театральном институте мечтал о других пальцах, которые бы соответствовали его представлению о «руках творца». Тогда он даже подумывал о пересадке от какого-нибудь погибшего пианиста. Господина Ганеля он почти не слушал. Вспоминал свои юношеские терзания из-за «простонародных пальцев». Его студенческая мука сейчас казалась ему такой умилительной. И все же в воспоминания проник слабый голос карлика: не думает ли он о том, что будет с труппой после скандала и его ухода?
– Нет. Не думаю.
Проявления абсолютного, державного эгоизма завораживали господина Ганеля. Он, так трепетно относящийся к долгу перед ближним, был потрясен тем, как легко Сильвестр поставил этот долг в подчинение другому долгу – перед собой, своим талантом, перед искусством. Отсутствие долговых разногласий действовало гипнотически. Он предчувствовал, что аморализм Андреева когда-то коснется и его, Ганеля. И был готов безропотно принять неизбежное. Снова желая насладиться (и ужаснуться) стальными принципами аморализма, карлик спросил:
– Вы видите, как страдает Александр. Я предлагаю дать ему увольнительную.
Короткий взгляд Сильвестра обдал холодом господина Ганеля, и он сразу внес в свою речь поправки:
– Я не предлагаю, я прошу… Прошу вас подумать об этом. Вы видели его, когда объявили, что Наташа будет Джульеттой? Нет? А я видел. И по телефону с ним разговаривал после того, как Наташа была у… У этого… – господину Ганелю было неприятно даже выговаривать имя Ипполита Карловича, так он его ненавидел. – Саша очень страдает. Как он будет сейчас играть? С одной души нельзя столько требовать.
– Ганель! Мне скучно.
– Он мой друг. – Карлик понял, что в его словах была не только провокация. Не только желание наблюдать за реакциями «сверхчеловека», как называл Сильвестра карлик. Был и настоящий дружеский порыв, желание защитить Александра от новой надвигающейся боли – Сильвестр Андреевич, мне тяжело видеть, как он мучается.
– А ты не смотри, если тяжело. Ганель! Ты говоришь, с одной души нельзя столько требовать. А куда он денет сейчас свою душу? Свое отчаяние? Жажду мести? Что он может? Только обстрелять особняк нашего спонсора из рогатки. Помнишь, о чем наш спектакль? Вот именно. О ненависти! Подумай, как великолепно Саша с такой бездной в душе сыграет Тибальта! – Сильвестр вгляделся в лицо господина Ганеля. – Ах, Ганель, улыбающийся Ганель, почему тебе нравится от меня слышать такие слова? Ты же сам сказал, что он твой друг?