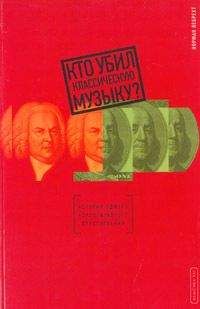Песня имен - Лебрехт Норман
— Неужели ты всерьез хочешь, чтобы я выступил перед аудиторией? — в голосе его мольба.
— И не перед одной. Перед многими. По всему миру.
— Но разве ты не понимаешь, что это совершенно не возможно… для человека с моим образом жизни?
— Не вижу никаких проблем. На время шабата, праздников и постов переезды и выступления будем отменять. На всех площадках обеспечим кошерную еду. Никаких раздетых девиц на сцене. Будем внимательно соблюдать все религиозные предписания. А о тебе сообщим лишь голый факт — что ты сорок лет провел в безымянной уединенной общине. Больше тебе ничего не придется объяснять, и, ручаюсь, на твоих близких это никак не отразится. Пусть раввин Давид Каценберг существует отдельно, а Эли Рапопорт — отдельно, незачем их соединять.
— Что мне сказать жене, детям, товарищам?
— Скажи им правду, для разнообразия. Когда ты принесешь в дом миллион долларов, вряд ли они станут меньше тебя любить.
— А если я откажусь?
— Не думаю, что ты можешь позволить себе эту роскошь. У тебя есть юридические обязательства перед моей фирмой, не говоря уж о моральном долге перед моей семьей. А если у тебя хватит глупости попытаться свалить во второй раз, я позабочусь о том, чтобы жена и дети узнали о твоем увлекательном прошлом: клубы, шлюхи, предательство, кража скрипки. По случаю сорокалетия твоего исчезновения в «Джуиш кроникл» появится на удивление осведомленная статья. На пороге твоего дома возникнет репортер из «Дейли мейл». Мне продолжать? Будет жуткий хилул Хашем, оскорбление имени Божьего. Ешива этого точно не переживет. С другой стороны, когда ты предстанешь перед публикой — пропавший раввин-виртуоз на подмостках Карнеги-холла, амстердамского Концертгебау и венского Музикферайна — и примешься бесстрашно покорять вершины европейской культуры, не поддаваясь при этом ее порче, это будет настоящий кидуш Хашем, прославление Святого Имени посредством слитых воедино религии и искусства. Ты прославишь свою веру и заодно исполнишь завещание своего последнего наставника, рош ешива. В общем, альтернатив всего две — выбрать не сложно, не так ли?
Протиснувшись мимо меня, он, ни слова ни говоря, вскарабкивается на водительское сиденье и, стиснув зубы, с ревом мчит нас обратно в город. Высаживая меня за углом гостиницы, уточняет:
— Сколько у меня времени?
— До утра пятницы, — отвечаю, — ответ мне нужен до отъезда в Лондон. Поезд в девять семнадцать.
— Подъеду завтра к обеду, — обещает он.
— Спасибо, Довидл, — отвечаю приторным тоном. — Уверен, мы славно сработаемся.
В приподнятом настроении марширую через вестибюль, спрашиваю ключ от номера (посланий нет) и взлетаю по лестнице, перемахивая через ступеньку и насвистывая тему из концерта Бруха. Столько дел, а времени в обрез. Перед самым концом рабочего дня успеваю позвонить в Альберт-Холл и подтвердить бронь. Дозваниваюсь коллеге, уточняю текущие расценки на сессионные оркестры. Уведомляю печатника о грядущем большом заказе на афиши и программки и заодно заручаюсь выгодными предложениями от двух его конкурентов. Быстрые подсчеты в прикроватном телефонном блокноте сообщают мне, что при вместимости в пять тысяч зрителей за один только первый концерт я выручу сотню «штук». Потом пойдут отчисления за радиотрансляции, записи, а может, и телевидение, — предела нет. Разобравшись со всеми делами, плещу в стакан двойного виски из мини-бара и до краев наливаю ванну — полежать, помечтать о великом будущем.
Не успеваю погрузить в воду заледеневшие конечности, раздается звонок. Не стал бы отвечать, да второй аппарат — прямо на стене над ванной, не трудно протянуть облепленную пеной руку.
— Извините, сэр, — хрюкает в трубке Альфред, мой шофер, — я привез даму, которую вы пригласили на ужин.
Ах ты ж черт. Та мослатая Стемп. Будет трещать о своем драгоценном Питере ночь напролет, а мне сейчас совсем не до этого. Хотя вряд ли она станет засиживаться, когда парнишка там дома сам себе предоставлен, да и, пожалуй, им с меня малость причитается за то, что навели на верный след.
— Проводите даму в бар, Альфред, и закажите для нее бокал лучшего шампанского. Передайте, что я буду через пятнадцать минут.
Ужин с миссис Стемп — «зовите меня Элинор» — далеко не так ужасен, как я опасался. Без прыщавого отпрыска на прицепе, в строгом темном костюме и белой шелковой блузке, Элинор Стемп вполне способна и с тонкостью побеседовать, и всласть посмеяться над собой. Под спаленного тунца с голландским соусом и резковатое «Пуйи-Фюиссе», она рассказывает, как очертя голову выскочила замуж за во всех отношениях «подходящего» мужчину, лишь бы только отлепиться от обколотого наркотой рок-гитариста, которого до безумия любила. Подходящий муж был ей абсолютно до лампочки, и она нисколько не расстроилась, когда, однажды вечером придя домой, обнаружила, что он ушел, оставив возле телефона в коридоре письмо: он хочет жениться на Хелен, официантке-школьнице из «Хэппи бургерз». Питер к тому времени проявил незаурядные музыкальные способности и больше часа в день упражнялся на своей детской скрипочке. Она решила помочь пареньку раскрыть талант. Окружение и работа у нее неинтересные, зато радостно видеть, как Питер творчески растет, а для полета фантазии есть современная европейская литература; в ней, надо сказать, она обнаруживает на удивление продвинутый вкус.
За крем-карамелью (ее, похоже, сваяли из остатков голландского соуса) мы говорим о Хорхе Семпруне, Патрике Зюскинде, Томасе Бернхарде и Иване Клима. А недавно она открыла для себя Чеслава Милоша. Упоминаю о своем давнем визите в Польшу, и она так и засыпает меня вопросами, и глаза горят статической энергией. С похвалой отзываюсь о варшавских еврейских романах Исаака Башевиса Зингера и наблюдаю за ее реакцией. Каким бы отвращением ни пылала миссис Стемп к фрумерам из Олдбриджа, на книги с прикроватной тумбочки ее расовая ненависть не распространяется. Пока нам угрюмо наливают кофе, она бросает взгляд на часы и восклицает:
— Десять часов? Мне надо идти. Питер будет волноваться.
— Мы ни словом не обмолвились о его будущем, — напоминаю мягко.
— О Боже, — стонет она, делаясь пришибленной и бесцветной.
— На данный момент обсуждать особо нечего, — успокаиваю ее. — Я подыщу поблизости первоклассного учителя, который подготовит его к публичному дебюту, и через ближайшие два года мы сможем трезво оценить его перспективы.
— Он станет великим исполнителем? — спрашивает она (все всегда спрашивают).
— Пока еще рано судить. Это, как и многое другое, зависит от того, что исторгнет разваливающийся Советский Союз. Классическая музыка — скукоживающийся рынок с жесточайшей конкуренцией, число концертов и сольных выступлений сильно ограничено. Если за следующие десять лет объявятся полдюжины Хейфецов, они сметут Питера, как, впрочем, и весь остальной Запад. Терпение. Через год-другой все прояснится. Будем стараться.
— Хотелось бы мне дать ему старт, а самой заняться своей жизнью, — к вящему моему удивлению, заявляет она. — Не собираюсь быть одной из тех мамочек-удавочек, что с поводком мотаются за своими вундеркиндами по всему земному шару. Я читала о таких в биографиях, и мне такая роль не по нутру. Я отдала Питеру лучшие годы. Остальное пусть останется мне.
Хм-хм, да в Элинор Стемп еще есть запал. Она порывается встать. Элегантно огибаю столик и отодвигаю ей стул.
— Спасибо за чудесный вечер, мистер Симмондс…
— Мартин, прошу вас. Позвольте, я вызову такси.
— Лучше я позвоню Питеру, чтобы укладывался, а сама загляну в дамскую комнату попудрить носик.
— Может, позвоните из моего номера? — предлагаю. — Тогда вам не придется пользоваться местными допотопными уборными, до которых к тому же, как вам, наверное, помнится со времен вчерашнего обеда, далеко идти.
Забираю ее пальто у заспанного гардеробщика и веду в «люкс» на втором этаже, где много лет назад я кувыркался с одной хохотуньей, которая звала меня «ворчливым мишкой», а теперь сыграет, а может, и не сыграет определенную роль в моих далеко идущих планах. Пока Элинор звонит Питеру, вешаю ее пальто в шкаф и включаю новости — заглушить звуки писсуара из просторной викторианской ванной. Номер огромен — в современных оборотистых гостиницах из такого накромсали бы целых три.