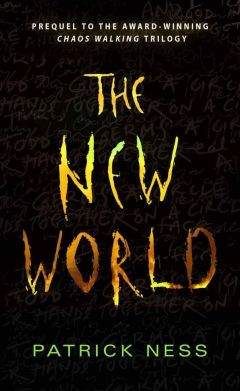Библиотекарист - де Витт Патрик
– Четыре дня.
Шериф покивал.
– Ну, не так уж и долго. Но, по правде, большинство ребят не протягивают и ночи, так что результат у тебя очень приличный. Кроме того, я бы сказал, что результат твой хорош и с точки зрения преодоленного расстояния. Как ты сюда добирался? Автостопом? Тормозил попутки? – Шериф поднял большой палец.
– Поездом и автобусом, – сказал Боб.
Шериф присвистнул.
– Неплохо. Есть чем гордиться. Вообще говоря, на мой взгляд, если уж беспокоиться о ребенке, так о том, который не норовит сбежать. Я тоже сбежал, когда был твоих лет.
Шины шуршали по гравию. Шериф сделал знак, Боб включил сирену и выключил. Толпа напирала, и не все спешили уступить дорогу машине, в результате чего бампером их задевало. Мужчина и женщина танцевали, тесно кружа со стороны шерифа; пропуская машину мимо себя, мужчина наклонился к открытому окну и спросил:
– Как вы оцените этот бунт, шериф?
– Как бунт недоумков, приятель. В этих парнях интеллект дремлет. Обыкновенная пьянь в угаре. Ущерб нанесли изрядный, ничего не скажу, но в целом впечатление очень неважное.
Танцор помахал рукой и закружился с партнершей дальше.
– Один парень из этих, из лесорубов, – сказал шериф Бобу, – я посадил его в машину, доставить в участок, так он сказал, что даст мне сто долларов, если я подброшу его обратно в лагерь. Сказал, что наличные у него при себе и я могу их получить, а он никогда ни единой живой душе ничего об этом не скажет. Я спросил: “А как же твои приятели?” И он спросил: “А что с ними?” И я спросил: “Ты что же, оставишь их расхлебывать за тебя кашу, а сам пойдешь спать?” И этот жук сказал мне, глядя в окно, сказал: “Каждый идет своим путем в этом мире, и неважно, что он там говорит”. Я подумал с минуту, а потом говорю: “Знаете, в чем, мистер, ваша проблема? В том, что гнилое у вас нутро”.
Шериф покачал головой, сплюнул в окно и указал на Боба, а Боб пощелкал переключателем. Группа шумных солдат шлепала руками по капоту патрульной машины, и шериф сказал им в громкоговоритель:
– Не шлепать по автомобилю шерифа! – А затем покосился на Боба: – А ты не слишком разговорчив, сынок, да?
Боб покивал, что да, он не разговорчив.
– А хочешь ли знать, – спросил шериф, – на сколько дней я убежал? Вот сколько дней прошло с тех пор до настоящего дня, на столько и убежал. Потому что домой я так и не вернулся. Что ты на это скажешь?
Боб пожал плечами. Шериф ему очень нравился.
– Вот как ты думаешь, они еще ставят мне тарелку, когда садятся за ужин?
– Может быть.
– А может, и нет, – сказал шериф. – А как насчет тебя? Думаешь, родители обрадуются тебе, или разозлятся, или что?
– Обрадуются, наверно.
– Не разозлятся?
– Ну, может, немного.
Шериф взглянул на Боба.
– Причина, по которой я спрашиваю тебя об этом, в том, что, если действительно там делается что-то неладное, тебе не обязательно возвращаться домой. Ты понимаешь, что я имею в виду?
– Да.
– Я имею в виду, что ты можешь мне все сказать.
– Да все в порядке.
– Ты точно уверен?
– Да.
– Хорошо, – сказал шериф. – Это хорошо. Отлично. Но ты дай мне знать, если вспомнишь о чем-то неладном, идет?
Они почти уже выехали на шоссе, и Боб смотрел на толпу, когда увидел Иду и Джун, стоявших чуть поодаль справа от патрульной машины. Он увидел их мельком, но с таким пристальным вниманием, что изображение запечатлелось в его памяти, как фотографический снимок: они стояли лицом друг к другу, словно на сцене, и лицо у Иды было несчастное, щеки красные и мокры от слез, в то время как Джун ласково на нее смотрела, гладила по волосам, промакивала ей щеки платком и что-то доброе говорила.
Боб почувствовал, что душа его рвется к ним, но патрульная машина, выбравшись на шоссе, уже миновала толпу и набрала скорость. Боб развернулся и встал на колени, чтобы следить в заднее стекло, как толпа и город становятся меньше и меньше. Последнее, что он видел в Мэнсфилде, был флюгер, криво торчащий над покосившейся башней; когда и тот скрылся из виду, Боб уселся лицом вперед.
Что-то в тот момент кольнуло его в сердце, но найти слово тому, что кольнуло, он не умел. Боб и хотел бы проститься с Идой и Джун, да мысль о чинном прощании также смущала – он, возможно, боялся, что не сможет с собой совладать. Но боль не покидала его, и Боб не знал, куда ее поместить. Сидел, упершись взглядом в обочину, асфальт расплывался в глазах, проносясь мимо. Солнце, стоявшее высоко, светило прямо в лобовое стекло, слепило, и шериф, морщась, хватал пальцами воздух и указывал на бардачок:
– Темные очки, сынок, очки от солнца, очки.
4
2006
Узнав, что Чирп и есть Конни, Боб повесил трубку, сел в закутке и, глядя в окно, спросил себя, что ж ему теперь делать. Но что он мог? Делать было нечего. Он принял что-то антигистаминное и проспал до полудня.
Сияло солнце, снег таял, и он позвонил Марии в Центр, предвидя, что та отчитает его за неподобающе поздний звонок накануне вечером, но она либо не помнила, что он звонил, либо не осознала, что это звонил он, а сразу заговорила о том, что устала до одурения, и, не дожидаясь расспросов, сообщила, что Чирп вернулась из больницы, а также о том, что они с сыном Чирп вместе продумывают, как бы организовать для Чирп более подходящее проживание.
– Он теперь, когда успокоился, стал посимпатичней и в знак примирения даже принес мне сегодня непропеченный маффин.
Она спросила Боба, зачем он звонит, и он на ходу сочинил историю про то, как у него обнаружилось личное дельце, которое не позволит ему приходить в Центр в ближайшее время. Мария этому удивилась. Она сказала:
– Личные обстоятельства – это то, на что волонтер ссылается, когда надумал отчалить, но у него не хватает духу сказать мне об этом прямо в глаза.
– Не надумывал я отчалить.
– Тогда в чем же дело? Ты заболел?
– Нет.
– Хорошо, но что же тогда?
– Я не болен, и я не отчалю, – пообещал Боб.
И правда, отчаливать он совсем не хотел, но не мог видеть Чирп, зная, что она – Конни, и потому принял решение не ходить в Центр, пока ее не переведут. Пусть это проявление слабости, провал некой базовой проверки на человечность, проверки, которая оказалась не по зубам, – и все же задача была столь непосильна в сравнении с тем, на что, по его мнению, он был способен, что он не испытывал никаких угрызений совести, что так спасовал. Боб не верил, что Конни поймет, кто он такой, не верил, что его присутствие доставит ей сколько-то утешения, так что если он продолжит бывать в Центре при ней, самой Конни это совсем ничего не даст, а ему принесет много боли, и он решил, что с него хватит, и точка.
Мария сказала Бобу, что нагнетать таинственность есть его право свободного гражданина, но она надеется, что он скоро управится с тем, что его отвлекает, и вернется в лоно Центра.
– Значит, ты сохранишь за мной мое место? – спросил Боб.
– Ну да, сохраню. Просто будь умник и дай нам знать, когда захочешь вернуться.
Так наступил период, когда у Боба не было доступа в Гериатрический центр имени Гэмбелла – Рида, и его дни стали тусклы и унылы. Разлука с друзьями не радовала, а новообретенное знание о состоянии Конни вызвало беспросветную, всепроникающую печаль, которая пусть и не была острой или опасной, но вдвое замедлила ход часов, лишила мир звуков и красок.
Уже несколько лет он отмечал, что силы его мало-помалу сдают, но именно в период отлучки от Центра это стало особенно явным. Что-то вдруг выпадало из памяти, что-то сгорало на плите, и порой он терялся, куда он, собственно, пошел и зачем. И тело отказывалось повиноваться: чувствовалась вялость в конечностях, он засыпал, не осознавая усталости, и просыпался растерянным и не отдохнувшим. Все чаще он полагался на канат, поднимаясь по лестнице в спальню, перехватывал его руками, как альпинист.
Однажды вечером он заснул на диване в гостиной и проснулся только в четыре утра. Полежал в темноте, осваиваясь, дыша. Потом встал, пересек комнату и, держась за канат, шаг за шагом стал подтягивать себя вверх по ступенькам, но когда добрался до верхней, медная проушина, державшая канат, выпала из гнезда. Тошнотворное мгновение он висел в воздухе, покачиваясь, с веревкой в руке, а затем сила тяготения подхватила его и швырнула вниз по ступенькам, как камень в яму. Очнувшись, он обнаружил, что лежит плашмя на спине, в пояснице боль такая, что в глазах белые вспышки, а сердце мучительно бухает и колотится. Некоторое время спустя острота слегка притупилась, пришло онемение. Тут оказалось, что он в состоянии думать о чем-то еще, кроме того, как ему плохо.