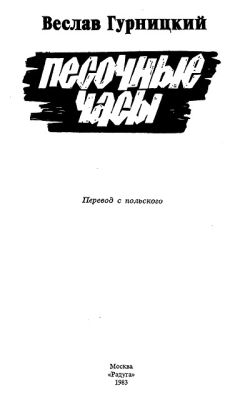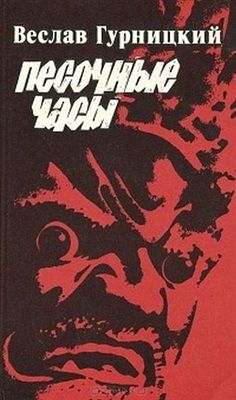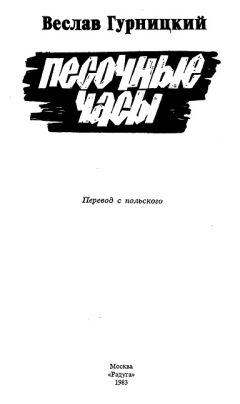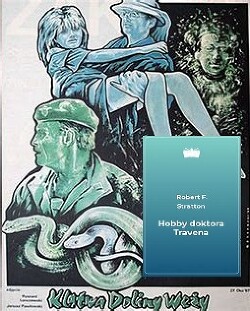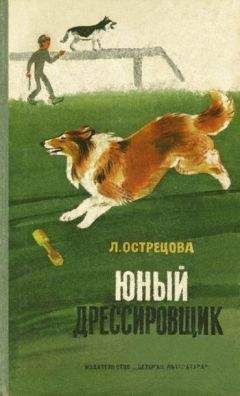Трактат о лущении фасоли - Мысливский Веслав
Однажды мать, выйдя от него с подносом, на котором снова стоял несъеденный обед, бросила мне со слезами на глазах:
— Отец просит тебя зайти.
Знаете, я не ощутил никакой радости. Даже облегчения не почувствовал. Я постучал, сердце у меня колотилось. Отец сидел на расстеленном диване, в пижаме, в тапочках, сгорбившись, словно даже сидеть было для него мучительно.
— Подойди, — сказал он.
Голос показался мне чужим. Я бы не узнал отца по голосу.
— Ближе, — сказал он. Тогда я увидел, что лицо отца с момента возвращения еще больше исхудало и пожелтело. Холодные глаза показались мне почти мертвыми. Он смотрел на меня, но я не был уверен, что он меня видит. Сердце колотилось все сильнее, хотя я стоял перед собственным отцом. Он был хорошим отцом, поверьте. Очень мягким, никогда не срывался. Ни разу даже не отшлепал меня, в отличие от матери. Великодушно принимал все мои поступки. А я тогда впервые почувствовал, что боюсь его.
— Сынок, я хотел бы исповедаться перед тобой, — сказал он. — Перед тобой, не перед Богом. — Я вздрогнул, хотя мало что понял. — Бог слишком легко прощает. — Отец с трудом выдавливал из себя слова. Мне казалось, что он говорит не ртом, а всем своим измученным войной телом, телом настолько худым, что кости ощущались даже через пижаму. Мне казалось, я слышу, как при каждом слове они трутся друг о друга. — Отцы должны исповедоваться перед своими сыновьями, чтобы память жила. Я не хочу, чтобы ты меня простил. Я хочу, чтобы ты помнил. Пусть твоя память будет моим покаянием. — Он устал, опустил голову, и мы надолго замерли так: я — стоя перед ним, оцепеневший, словно мне отдали приказ «смирно», отец — на своем диване, будто вот-вот рухнет головой вниз. Он с усилием поднял на меня глаза. Они уже не были холодными, мертвыми, скорее просто не верили, что это я. Отец смотрел на меня долго. Смотрел и словно не верил, что видит меня. — Мне приказали проверить, не прячется ли там еще кто-нибудь. В саду между домом и амбаром была картофельная яма. В тех местах копают такие — что-то вроде погреба. Я подбежал, дернул дверцу и увидел тебя. Вот ты сейчас стоишь передо мной, и я все больше убеждаюсь, что это был ты. Я увидел твои испуганные глаза. Подойди ближе. — Отец смотрел, долго смотрел мне в глаза, так близко, что мне казалось, будто наши глаза соприкасаются. — Да, глаза те самые. Они не верили, что этот солдат с еще дымящимся пистолетом, солдат, который, наверное, сейчас снова спустит курок, — твой отец. Я на мгновение замешкался. В тот момент я понял, что не имею права жить. Я, твой отец, был раздосадован, что увидел тебя. В ярости я захлопнул дверцу и крикнул, что тут никого нет. — Он устал и, видимо, задохнулся, но в следующее мгновение обхватил мою голову обеими руками и положил ее к себе на плечо. Его тело содрогалось. — Для нас всех было бы лучше, если бы я погиб, — прошептал он мне почти в самое ухо. — Но я так хотел увидеть вас перед смертью. Так хотел. Я люблю тебя, сынок. Но этого недостаточно, чтобы жить. А теперь иди. — И он отодвинул меня.
Мы оба сидели молча после этих последних слов его отца: что после такого скажешь, сами понимаете. Кафе постепенно заполнялось посетителями, в зале становилось все более людно и шумно. В какой-то момент он поклонился кому-то или ответил на поклон.
Я не обернулся, решил, что неудобно в такой момент проявлять любопытство. А он, снова, кому-то поклонившись или отвечая на поклон, сказал:
— Но ничто не предвещало того, что вскоре произошло. Когда он брился... опасной бритвой.
После этих слов он как-то погас. А может, решил, что теперь нашу встречу можно снова считать случайностью. И ему больше не хотелось разговаривать. Я тоже не мог придумать, как поддержать разговор. К своему изумлению, я почувствовал, что боль в правом боку под ребрами прошла. Я даже не заметил, когда она стихла. Как рукой сняло. Так что я охотно съел бы еще одно пирожное и выпил еще чашку кофе. Я даже хотел предложить ему кофе и пирожное, но он взглянул на часы и сказал:
— О, я и не подозревал, что уже так поздно. Я вам чрезвычайно благодарен. К сожалению, мне пора.
Он достал бумажник, отсчитал деньги и положил купюры под сахарницу. Убирая бумажник, вдруг замешкался и снова достал его:
— Подождите, может, это здесь.
И опять, как тогда, раньше, стал искать в разных отделениях. Я подумал, что теперь он, наверное, хочет дать мне свою визитную карточку. И тоже полез во внутренний карман пиджака, чтобы достать из бумажника свою.
— Нет, не ищите, у себя вы этого не найдете. Она должна быть где-то здесь. Я уверен. — Он все более лихорадочно копался в бумажнике. — Я хотел показать вам очень интересную фотографию. Правда, весьма необычную. Тот, кто ее сделал, поймал момент, когда мой отец стоял передо мной. Где же она? Не может быть, чтобы ее не было. Необычно то, что мы смотрим друг другу прямо в глаза. Мои испуганные глаза, которыми я смотрю на отца, и его лицо, искаженное гримасой, его глаза, устремленные на меня. При этом оба лица сняты анфас. Точка, с которой сделана фотография, казалось бы, просто не существует в природе: не может быть, чтобы лица были обращены друг к другу и оба сняты анфас. Я пытаюсь сообразить, где может находиться эта точка, но пока у меня не получается. Ведь где-то же она есть, и лучшим доказательством является эта фотография. Если бы мне это удалось — вот было бы открытие. Кто знает, может, это новое измерение, пока недоступное для наших органов чувств, нашего воображения, нашей совести.
Руки у него дрожали, он снова начал выкладывать на стол содержимое отделений своего бумажника, вынул все до последнего листочка.
— Взгляните. — Он протянул мне фотографию. Я подумал, что это та, которую он искал. — Моя мать.
— Красивая женщина, — сказал я. Она действительно была красивой. Но мой собеседник не был на нее похож. Разве что немного глаза, губы.
— Так она выглядела, пока отец не вернулся с войны, — сказал он словно нехотя, занятый поисками той фотографии. Теперь он искал ее среди всего, что выложил из бумажника на стол.
— Возможно, эту точку нельзя отыскать в нашем повседневном пространстве. Тем более что мы слишком к ней привыкли, стали одним из ее измерений. А ведь именно пространство определяет то, какие мы на самом деле. Так же, как определяет все остальное. Не только в физическом смысле этого слова. Судя по этой фотографии, речь, возможно, идет не о физическом пространстве. Вот что я пытаюсь выяснить. Иногда признаки этого пространства можно заметить в работах мастеров, на их шедеврах. Обычные законы физики противоречат идее его существования. Но именно в этом и заключается величие искусства. Под искусством я понимаю мир — увы, вместе с человеком. Ах, если бы я нашел эту точку. Нет, фотографии, к сожалению, здесь нет, — сказал он отрешенно, словно разочаровавшись в самом себе. — Извините, пожалуйста. — Он стал складывать обратно в бумажник все, что выложил на стол, — механически, не разбирая, что где лежало раньше. — Мне очень жаль, — повторил он. — Я был уверен.
— Не волнуйтесь, — сказал я. — Вы мне ее в следующий раз покажете.
— Вы хотите снова со мной встретиться? — удивился он.
— Конечно. Можно даже здесь, в этом кафе. Особенно если этот стол окажется свободен... — поспешил я заверить его, чтобы он не подумал, будто я говорю просто из вежливости.
— Но видите ли, — сказал он, убирая бумажник в карман, — не знаю, возможно ли это. Скорее — невозможно. — Он подчеркнул первый слог. — Нам пришлось бы снова не знать друг друга и снова по ошибке поклониться друг другу на улице, не сомневаясь, что мы уже где-то когда-то встречались. Но где, когда? Иначе вы правы — получится, что это просто дурацкая случайность.
12
Знаете, я вот думаю: это он мне не сказал или отец ему не признался — когда он подбежал к дверце картофельной ямы, возле нее лежала свинья. Она выкатилась из хлева, когда все запылало. Хлева стояли чуть сбоку, их частично было видно в ту щелку, через которую я смотрел. Свинья шла медленно, она была старая. Таких старых свиней обычно не держат, но это была необыкновенная свинья. Жирная, она еле передвигалась на своих коротеньких ножках. Их и видно-то почти не было из-под обвисших боков. Казалось, она катится по земле. Свинья направилась прямиком к яме, где я сидел. Начала похрюкивать, водить рылом по дверце. Скорее всего, учуяла меня. Ко мне она действительно была больше всего привязана. Пыхтела, хрюкала, а потом взяла да улеглась прямо у дверцы. Он пнул ее, свинья с трудом поднялась. Он захлопнул дверцу и, крикнув кому-то, что здесь никого нет, в ярости разрядил в свинью обойму. Палил, хотя она уже лежала мертвая. Все до последнего патрона расстрелял, куски мяса так и летели во все стороны. Откуда я знаю, что до последнего патрона? Он магазин заменил.