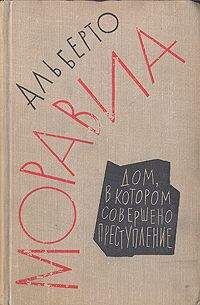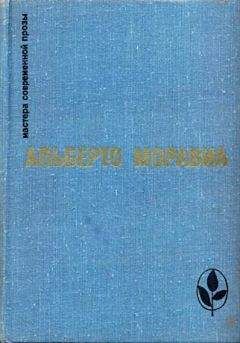Альберто Моравиа - Скука
В конце концов после месяца бесплодного выслеживания и столь же бесплодных сексуальных неистовств я понял то, что должен был бы понять в первый же день, а именно: не может вести слежку за кем-нибудь тот, кто прямо заинтересован в ее результате. И если я хочу что– нибудь выяснить, я должен обратиться к соответствующим профессиональным инстанциям, то есть к агентам частного сыска. Мысль об агентстве подала мне сама Чечилия.
Ведя за нею наблюдение, я все время думал о Балестриери. Старый художник, на которого при его жизни я не обращал никакого внимания, после смерти стал обладать для меня какой-то странной, отталкивающей притягательностью. В сущности, думал я иногда, Балестриери был для меня то же, что зеркало для больного: неопровержимое свидетельство прогрессирующего развития болезни. Особенно много я думал о Балестриери, когда делал что-нибудь такое, что, мне казалось, должен был делать и он. И потому в те дни, когда я шпионил за Чечилией, я однажды не удержался и решил узнать, а не поддался ли в свое время старый художник той же слабости, что и я. Мы сидели в машине, я провожал Чечилию домой, был вечер. Доехав до улицы, где она жила и где я столько раз напрасно ждал, когда она выйдет из дома, я остановил машину и неожиданно спросил:
— Балестриери за тобой никогда не шпионил?
— Что значит «шпионил»?
— Ну следил за тобой, поджидал, выслеживал.
— А, да, это да.
— Ты никогда мне об этом не говорила.
— А ты никогда не спрашивал.
— И как он за тобой следил?
— Вставал во дворе и ждал, когда я выйду.
Значит, подумал я, Балестриери был сообразительнее меня: он сразу обнаружил второй выход. Я продолжал:
— А потом?
— А потом, когда я выходила, он шел следом за мной.
— И часто он так поступал?
— Было время, когда он делал это каждый день.
— Во сколько он появлялся во дворе?
— Как когда. Иногда, когда он знал, что я должна уйти рано, он стоял там уже около восьми.
— А как ты об этом узнавала?
— Его было видно из окна моей комнаты.
— И что он делал?
— Прогуливался, или притворялся, что читает газету, или рисовал что-нибудь в блокноте.
— Но как он добивался, чтобы ты, выходя, его не заметила?
— Он прятался в подъезде, там, где темнее, или за деревом.
— А потом?
— А потом шел за мной следом.
На мгновение я замолчал; мне казалось, я вижу старого художника, приземистого, широкоплечего, с огромными ногами, его красное лицо, его серебряные волосы, и то, как, приподняв воротник плаща и надвинув на глаза шляпу, плетется он за шестнадцатилетней девчонкой со двора на улицу, с этой улицы на другую, и внезапно испытал привычное чувство стыда при мысли, что и я в эти дни делал то же самое. И все-таки я продолжал допытываться:
— Но ты замечала, что он за тобой следит?
— Иногда замечала, иногда нет.
— А когда замечала, что ты делала?
— Ничего, шла своей дорогой, словно ничего не заметила. Однажды, правда, я повернулась и пошла ему навстречу, а потом мы вместе отправились в кафе.
— Что он сказал в кафе?
— Ничего не сказал, заплакал.
Некоторое время я молчал. Чечилия, которая не любила, чтобы ее допрашивали, воспользовалась этим моментом и сделала движение, чтобы выйти из машины. Но я ее остановил.
— Погоди. В ту пору, когда он за тобой следил, ты ему изменяла?
Она ответила так, будто ей самой казалось забавным это совпадение:
— Представь себе, что вовсе не изменяла. Это произошло несколько месяцев спустя.
— То есть он подозревал тебя и следил за тобой напрасно?
—Да.
— А когда, ты говоришь, у тебя кто-то появился, он уже не следил?
— Да, не следил, потому что к тому времени убедился, что я ему не изменяю.
— И каким же это образом?
— Он нанял человека следить за мной.
— Какого человека?
Она неуверенно сказала:
— Ну знаешь, из агентства, которое занимается сыском, в общем, агента. И ему сообщили, что у меня нет никого, кроме него.
— А как ты узнала, что он нанимал агента?
— Он сам мне потом сказал и показал отчет на много страниц. Ему это обошлось Бог знает во сколько.
— Он был доволен?
— Счастлив.
После короткой паузы я спросил:
— И ты изменила ему сразу же после того, как агент доказал ему, что ты ему не изменяешь?
— Да, месяц спустя, но я же не нарочно, так получилось.
— А он узнал?
Она поколебалась, потом сказала:
— Думаю, о чем-то он догадывался, но никогда не был твердо уверен.
— То есть?
— Увидев меня два или три раза с одним и тем же парнем, он снова принялся следить за мною сам, без помощи агента. Но к тому времени он уже очень устал и занимался этим гораздо меньше, чем в начале. А потом он умер.
— А почему он и на этот раз не нанял агента?
Она сказала, словно бы в раздумье:
— Если бы он тогда нанял агента, он, конечно бы, все узнал. Но он перестал доверять агентству. Говорил, что я всегда ему изменяла, а агентство просто не сумело докопаться до истины.
После этого разговора я все чаще стал подумывать о том, чтобы прибегнуть к помощи агентства, как это сделал Балестриери. Странно, но если раньше я воздерживался от тех или иных поступков именно потому, что их уже совершал Балестриери, сейчас я, наоборот, хотел обратиться в агентство как раз потому, что Балестриери гуда обращался. Казалось, я устал удерживаться на вершине, с которой Балестриери когда-то уже соскользнул, и решил делать то, что делал он, словно делать это сознательно и по убеждению стало отныне единственным способом быть не как он, проделывавший все это в состоянии, близком к безумию.
И настал день, когда я отправился в агентство «Сокол», мрачное здание на виа Национале, снаружи чрезвычайно пышное, разукрашенное, все в колоннах, статуях и латинских надписях, а внутри грязное и темное. Я поднялся на пятый этаж в старом, дребезжащем, вонючем лифте и, оказавшись на полутемной площадке, пошел на свет, падающий из-за матовых стекол двери, на которой было название агентства и символическое изображение маленькой птички, должно быть того самого сокола. Я открыл застекленную дверь — при этом задребезжал звонок — и очутился в почти пустой прихожей, где стояло только несколько плетеных стульев. Двое мужчин вышли в этот момент из комнаты, затягивая пояса плащей и надевая шляпы; по манерам и по одежде я сразу догадался, что это были платные агенты, может быть те самые, что в свое время следили за Чечилией. Дверь за ними осталась открытой, я подошел к порогу и в глубине комнаты за письменным столом увидел мужчину, который читал газету; он был смуглый, лысый, худой, с вдавленными висками, большим носом, впалыми щеками. Я спросил его, где директор. Он ответил вежливо, но с достоинством, явно желая снискать мое доверие: