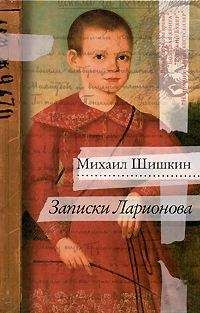Михаил Шишкин - Всех ожидает одна ночь. Записки Ларионова
Стрелять очень скоро мне наскучило, и я только заряжал пистолеты.
Ситников стрелял сосредоточенно, с каким-то хмурым упорством, подолгу целился, прищуриваясь, поджимая губы, и за все время не произнес ни слова.
После очередного выстрела я подошел к дубу, в который мы стреляли, чтобы сменить карты, и когда обернулся, вдруг увидел, что Степан Иванович целится в меня.
— Что это с вами? — сказал я. — Верно, я похож на валета?
Ситников молчал. Глаз его был прищурен. Дуло глядело мне в лоб.
— Что означает эта дурная шутка? — крикнул я. Все это было дико, невозможно.
Рука его задрожала, и Степан Иванович опустил пистолет. Я сделал к нему несколько шагов. Он стоял бледный, на лице его выступил пот. Он нервно улыбнулся.
— Хорошо, считайте, что это была дурная шутка. Допустим, что мне хотелось посмотреть, как ведет себя человек перед смертью….
Степан Иванович как-то странно засмеялся. Все это было выше моего понимания. Я, вне себя от злости, швырнул остатки колоды в снег и зашагал прочь.
На несколько дней по делам службы мне пришлось выехать в Тетюши.
На обратном пути на одной из станций мне встретились пленные поляки, которых гнали по этапу в Нерчинскую каторгу. Было уже темно, их пересчитывали с фонарем и загоняли в сарай на заднем дворе. Прапорщик, начальник этапа, рассказал мне, что двое из них уже умерли по дороге и неизвестно, скольких он приведет в Нерчинск. Когда им раздавали ужин, я зашел с прапорщиком в сарай, там был коптящий фонарь, чадящая печка, кашель, сырость, грязная одежда. Я попытался заговорить с ними, но поляки молчали. Я еще подумал, что они боятся прапорщика и, когда мы выходили, незаметно бросил на лавку у самых дверей деньги, которые так могли им понадобиться. Там было около ста рублей ассигнациями. Но только мы вышли и солдат задвинул засов, как поляки стали стучаться в дверь. Им открыли, и кто-то из них швырнул ассигнации к моим ногам.
В первый же вечер по приезде я увидел на своем пороге Степана Ивановича.
— Что вам угодно? — холодно спросил я.
— Александр Львович, мне нужно поговорить с вами!
— Я устал с дороги. К тому же, признаюсь, у меня нет никакого желания беседовать с вами.
— И все-таки я должен вам кое-что объяснить…
Мы прошли в комнату.
— Я чувствую, как опять ко мне подступает эта проклятая лихорадка, — сказал он, — но прошу вас не объяснять болезнью то, что я сейчас скажу вам.
Вид у него действительно был болезненный. Похоже, скоро должны были начаться приступы.
Степан Иванович долго молчал, собираясь с мыслями. Потом сказал:
— Там, в лесу, я имел намерение убить вас, потому что это я был в Ундорах, это я имел неосторожность раскрыть перепуганному старику мой план. Он принял меня за провокатора. Вы сами понимаете, что никто не должен был знать об этом. Но вы каким-то непонятным образом обо всем догадались.
— Что же вы не выстрелили?
— Александр Львович! Неужели вы не понимаете, что та жизнь, которой вы живете, недостойна вас?! Вы — человек с душой и совестью, зачем вашим молчанием, вашей бездеятельностью вы множите общую подлость? Я говорю все это только потому, что вижу — вы порядочный человек. Вы не должны унижать самого себя!
— Я не понимаю, о чем вы.
— Сейчас сидеть здесь и прозябать — подло! Всякий честный русский сейчас должен быть там, вы слышите, там!
— Вы собираетесь стрелять в русских?
— Страшно стрелять не в русских, страшно, когда русские стреляют в безвинных, а мы молчим и ничего не делаем, чтобы прекратить это. Нельзя больше так жить, в рабстве, подлости, унижении! Как вы не понимаете этого!
Он вскочил и стал кричать, что достаточно немного, одного примера, нескольких честных офицеров, и тогда русские солдаты вместе с поляками повернут оружие против своего действительного врага, что Россия не может больше терпеть, что она готова вспыхнуть в любую минуту, что свободу не даруют, за нее нужно сражаться.
— Степан Иванович, — сказал я, — вы сошли с ума.
Он остановился, взял голову в ладони, стал тереть виски. Несколько минут прошло в молчании.
— Я понимаю, — тихо сказал он. — Вы сейчас не готовы на что-либо решиться. Но я верю в вас. Я хочу, чтобы мы были вместе. А сейчас, я прошу вас, отвезите меня домой. Кажется, начинается.
Действительно, его уже знобило, лоб покрылся испариной, глаза горели.
Михайла пригнал извозчика. Мы посадили Степана Ивановича в коляску. Он откинулся назад и закрыл глаза.
Следующий день выдался душным и жарким, в воздухе парило, дышать было тяжело, и все предвещало первую майскую грозу.
На службе часы тянулись медленно от духоты и головной боли. Окна были открыты, но это помогало мало. Со двора, от нагревшихся на солнце стен, поднимался горячий воздух. Мальчишек-кантонистов то и дело посылали за квасом. Со стороны Казанки на самом горизонте собирались тучи.
Из канцелярии я зашел к Степану Ивановичу. Он был в очень плохом состоянии, лежал в беспамятстве, бредил. У него был сильный жар. Меня он не узнал. Я испугался, как бы все это не кончилось совсем плохо, и, взяв извозчика, поехал к Шрайберу.
Гроза была уже где-то близко. Среди бела дня стемнело. Кусок чистого неба еще оставался над Арским полем, но почти над всей Казанью уже нависла тяжелая, могучая темнота. Со стороны Казанки то и дело долетали раскаты грома и раскалывались прямо над головой, но молний еще не было видно. Резкие порывы ветра клубили по улицам казанскую пыль. Во дворах крутило сирень и надувало неубранное белье. Когда я остановился у дома Шрайбера, в песок упали первые редкие капли.
Мне открыла дородная неряшливая баба, его кухарка.
— Петра Ивановича нет, — сказала она, дожевывая что-то и глядя на небо. Ее руки были в тертой моркови, и она вытирала их о фартук. — С утра уехал на следствие. Сказал, что к обеду будет, а вот все нет и нет.
Я подумал, что он может быть у Екатерины Алексеевны, и поехал на Грузинскую. Мой возчик заартачился было:
— Бог с тобой, барин, не поеду дальше! Смотри, чего идет!
Он ткнул своим кривым черным пальцем в набегавший гром. Громыхало уже без остановки. В блесках молний воспламенялись кресты Петропавловского собора. Улицы опустели, то там, то здесь захлопывались ставни. Я сунул возчику полтину, и гроза стала ему нипочем. Мы резво поскакали в сторону Грузинской.
У дома Крылосова стояло несколько экипажей. Лакей провел меня в большую гостиную. На столе, в цветах, стоял портрет матери Екатерины Алексеевны, это был день ее смерти. В комнате были какие-то люди, большинство из них я не знал. Я подошел к Крылосову и пожал его мягкую, будто набитую ватой руку. Он посмотрел на меня невидящим взглядом и сухо кивнул. Екатерина Алексеевна сидела в углу дивана в черном шелковом платье, которое так шло ей. Я подошел к ней, поцеловал руку. Шрайбера не было. Посидев немного для приличия, я откланялся. Екатерина Алексеевна вышла за мной в прихожую.