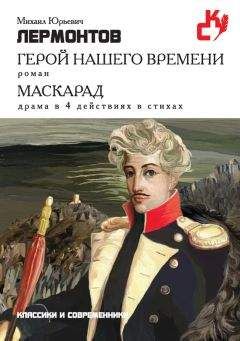Владимир Маканин - Андеграунд, или Герой нашего времени
Василек Пятов уговаривал:
— Придем к тебе с Уманским... Демонстрация — это праздник и только как повод. А тебе — как личное знакомство со знаменитым экспертом. Поверь, Петрович, это надо, надо! Немного водки. Немножко лести. Уманский — такой же нормальный человечишка, как все мы, вот разве что одряхлел. Но для лести его уши еще вполне приоткрыты и свежи...
Этот молодой Василек меня еще и учил.
— ... Надо, надо отметить. Будет как встреча в праздник. Будет как День художника.
— День кого? — я засмеялся.
Но он хорошо мне врезал. Молодой, а умеет.
— День твоего брата Вени.
И я тут же ощутил комок в горле.
Поговорили: эксперт Уманский сможет, пожалуй, подключить и немцев, заинтересовать Веней того же Аймермахера, — два известных рисунка как начало? А Чубик развел руками, мол, о Венедикте Петровиче пора и статью писать!..
Василек: — Придем с выпивкой. Но водку и ты сколько-то поставишь...
— Чем я-то смогу заинтересовать Уманского?
Я мало верил в добрые дела за просто так. А водку старичок пить не станет — выпьют они.
— Как чем?.. Ты — брат Венедикта Петровича.
Мы, видно, шумели; два жалких холмика под одеялами стали ворочаться. Одна громко охнула. И выдала долгий-долгий стон (выстонала боль голодного сновидения). Тс-с. Василек погрозил нам пальцем.
Мы решили перейти из собственно мастерской в комнату-боковушку.
Встали и — взяв разом в руки (с трех сторон) — понесли круглый разрисованный мелками столик с покачивающейся на нем бутылкой и стаканами. Шаткий столик с впрок нарисованной толпой (с будущей демонстрацией!), и как же бережно и чутко мы в ту минуту его несли, минуя узкое место при выходе, — андеграундный художник, андеграундный писатель и, если верить слухам, стукач — все трое. Миг единения. Символ тишины с покачивающейся бутылкой. Тс-с.
Чубик расхваливал воронежские портреты, сделанные недавно Васильком — три лица как три лика (почему-то безглазые). Заговорили о глубинке, о жалких там нынче выставках и о малых ценах. Я примолк. Я смотрел. Лица с полотен источали суровость, их безглазье отдавало страшным нераспаханным черноземом. Беды. Бездорожье. Безденежье. Вурдалаки с кротким и чистым взглядом. В таких портретах я не любил свою давнюю провинциальную укорененность, вой души, который так и не спрятался в истончившуюся боль.
На северной стороне общаги (смотреть из окна Конобеевых) тянулась неухоженная серенькая московская улочка — по ней, словно бы ей в контраст, ходили туда-сюда веселые и красивые люди. Там светился окнами известный спортзал, тренировались прыгуны, гимнасты на батуте, разъезжавшие по всему миру.
Имевшие возможность ярко одеться и просты душой, они были совсем не против (им нравилось), чтобы их красота и их достаток били в глаза другим. Особенно в дождь, в слякоть эти броско, богато одетые женщины и мужчины казались на спуске улочки не людьми, а внезапным десантом с неба. Сравнение с небесным десантом только усиливалось, когда я видел их в окнах громадного высокого зала: мужчины в спортивных костюмах и женщины (иногда в купальниках) совершали там свои прыжки, эффектные и тягучие, как пригретая в зубах молочная жвачка. Переворачиваясь в воздухе, женщины в купальниках вдруг кланялись друг другу. Раскланявшись — разлетались в стороны. Они бились о пружинящую ткань спиной и рельефной задницей, но тут же вновь мягко-мягко взлетали, бескостные инопланетяне. Михаил и я, застывшие на десятилетия в андеграунде, казались вблизи них издержками природы, просто червячками — ссутулившийся, постаревший, копошащийся червячок сидит и перебирает буквы (на пишущей машинке), а совсем рядом, в доме напротив, красивые люди взлетают и падают — с каждым аховым падением не только не погибая, но еще более взлетая и сближаясь с небом. Не птицы еще, но уже и не люди.
— Там женщины. Там — настоящие! — Михаил, появившись (с рукописью) в тот вечер у меня, застыл у окна. Он жевал бутерброд с колбасой, не отрывая взгляда от полуптиц.
Я засмеялся:
— Не то что твои! — Женские образы Михаилу сколько-то удавались, спору нет, но настораживало, что вокруг и рядом с автором (мне ли не знать) жили женщины почему-то совсем-совсем иные. Жесткие и цепкие. И чуть что дававшие ему пинка (начиная с его решительной жены, удравшей от Михаила за границу, едва ей там засветило).
Михаил тоже понимал несоответствие. И как только в очередной повести возникала сентиментальная женщина, приносил мне почитать, устраивая ей (и себе) проверку. Знал, что ждет разнос. Так уж сложилось. Потеряй я боевые клыки и подобрей вдруг к своим ли, к чужим, не важно чьим, текстам, для Михаила (для нас обоих) рухнуло бы одно из измерений вербального мира.
Но с некоторых пор я уже не в состоянии читать с начала; тяготят усилия. Возможно, не хочу иметь дела с замыслом, который скоро угадываю. (Возможно, просто старею.) Зато произвольные куски из середины, из четвертой главы, любые десять шелестящих страниц подряд — вот мое удовольствие. Лучшие тексты в моей жизни я прочитал урывками в метро. Под пристук колес. Вот и Михаил вновь описывал своих плачущих, плаксивых, слезокапающих, слезовыжимающих женщин — а что? а почему нет? — писали же вновь и вновь живописцы пухлых, пухленьких, пухлоемких, пухлодразнящих мадонн. Читал, и мало-помалу меня захватывало. Ах, как он стал писать! — думалось с завистью. На сереньком, на дешевом бумажном листе, дважды кряду, текст довел меня до сердцебиения: снисхождение к женщине было явлено в строчках с такой болью и с такой бессмысленной силой прощения, что какое-то время я не смог читать, закрыл глаза. Станцию за станцией ехал, тихо сглатывая волнение.
Провожая немощную старуху, Михаил слетал в Израиль (по просьбе и на деньги ее родственников). Заодно повидался там с братом. С братом не виделись десять лет! Они общались, не расставаясь, все три дня. Брат следил за событиями в России, сопереживал. Но как только Михаил, воодушевясь, стал рассказывать, как он вместе с другими во время августовского путча строил заграждения у Белого дома и спешил защищать шаткую демократию, брат, выслушав, грустно ему заметил:
— Когда вы наконец оставите эту несчастную страну в покое?
— Эта страна — моя, — сказал Михаил.
Брат промолчал.
Михаил был задет. Он вернулся обиженным.
И теперь спросил меня:
— Как ты думаешь: брат имел в виду (он ведь сказал вы) евреев, оставшихся в России?
Я пожал плечами: разговор братьев понимать трудно, еще труднее интерпретировать за глаза.
— Возможно, он имел в виду вообще всех наших либералов...