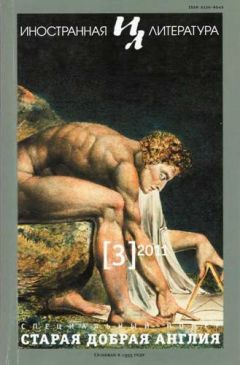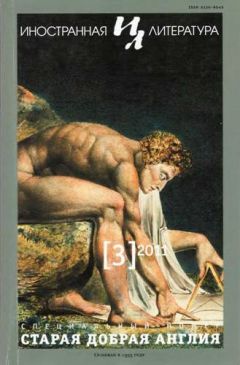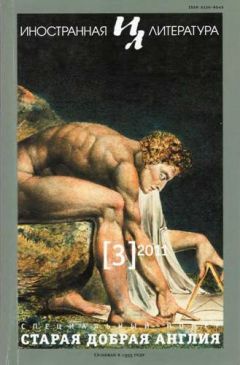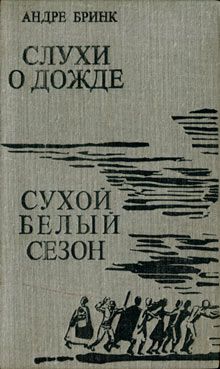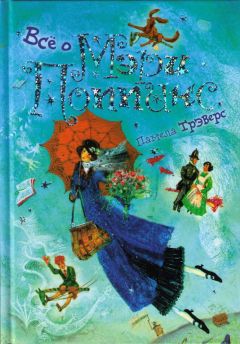Андре Бринк - Сухой белый сезон
Залаяла собака. В дальнем конце двора послышался шум мотора, затем снова смолк, потом опять загудел. Луи возился с движком.
Этот звук вернул мать к действительности.
— Я не собиралась мешать тебе. Просто захотелось немного поболтать.
— Спасибо, мама.
— Мне надо идти.
— Посиди еще, если хочешь.
— Нет, пора за работу. А тебе, по-моему, надо еще о многом подумать. Пожалуйста, положи папку на место, когда будешь уходить. Ладно?
* * *
Казалось бы чего проще: послушаться мать, поехать в Йоханнесбург и расторгнуть контракт. Я всегда могу извиниться, рассказав Калицу об оговорке в отцовском завещании. Мне будет приятно сознавать, что мать спокойно доживает свои дни на ферме. И, что, может быть, еще важнее, ферма останется за нашей семьей и на будущее. Хотя у нее и нет практической ценности, сам факт обладания ею действует как-то успокаивающе — словно некая моральная гарантия или страховка.
Но конечно, на самом деле все было гораздо сложней. Ни мне, ни министру так просто не выпутаться из этой истории. Ему надо было завершить свои манипуляции с администрацией бантустана, иначе все выплыло бы наружу, а я был вынужден продавать, иначе Калиц не успокоился бы, пока не разорил бы меня.
Рассуждать и спорить было уже поздно — решение принято, и я прибыл на ферму объявить его.
А если бы выбор еще и существовал, то все равно ситуация была далеко не простой. Ибо требовалось сбалансировать не две сопоставимые величины, а две принципиально различные, две совершенно разные системы ценностей. Ферма имела отвлеченную, моральную значимость с включением сюда, если угодно, нашей истории, нашего патриархального прошлого, наших национальных традиций и, возможно, нашей свободы. Другими словами, она олицетворяла собой все то, с чем я давно отвык обращаться. Ибо на практике я всю жизнь имею дело с прямо противоположными категориями: компромиссами, рассчитанным риском, выигрышем, победой. Просто, для того чтобы выжить, мне нужно всегда оставаться на коне. Выбора у меня нет. Или быть на коне, или — в пропасть. Тот же выбор, с которым из поколения в поколение сталкивались мои предки, только в ином измерении. А я не собираюсь бросаться в пропасть.
Вопрос стоит так: сколько сентиментальности, идеализма и атавистического романтизма я могу себе позволить, не утрачивая вкуса к борьбе за существование? Сколько я могу на это бросить? Ибо это действительно было для меня роскошью. В моем случае истинная роскошь — это не дом, спроектированный для нас Тео, не «мерседес», не дорогая мебель, не хорошее красное вино или хлебные деревья в саду. Все это для меня стало почти привычным. Подлинной роскошью были свобода мечтать, свобода быть непрактичным. Да и свобода как таковая стала романтическим понятием.
У меня нет нужды верить в правильность жизни, которую я веду. Достаточно просто жить ею.
А для того, чтобы выжить, я должен считать все элементы жизни относительными и взаимозаменяемыми.
Не будучи циником, теряешь способность воспринимать реальность реально.
Конечно, я устал. Почему бы не признать это? Я выбрал изнурительный и опустошающий образ жизни. Уже поэтому было крайне соблазнительно принять то, что предлагала мать: покой и мир иллюзий. Но, понимая, что иллюзия — это только иллюзия, я не мог поддаться ее искушению.
Ох, как славно было бы поверить в свободу, надежду, веру и любовь. Но главное, надо выжить. А чтобы выжить, нужно всегда быть в стане победителей, надо быть сильнее соперника. Во мне есть воля к успеху, «инстинкт убийцы». А вот в отце ее не было. (И в Бернарде тоже.)
* * *
На пороге показался Луи.
— Привет!
— Ты здесь весь день?
— Да, пожалуй.
— А чем ты занимаешься?
— Просматриваю отцовские бумаги. Проверяю, все ли в порядке.
Я заметил его недоверчивый иронический взгляд, брошенный на одну-единственную папку на столе, но не стал пускаться в объяснения.
— Чем-нибудь помочь тебе?
— Скучаешь?
— Конечно.
— Недавно я слышал движок. Починил его?
Он улыбнулся и на миг снова стал мальчиком.
— Да, работает хорошо, — сказал он. Затем добавил: — Правда, мне очень помог Мандизи. Руки у парня нормальные.
— А тебе не хочется вернуться на инженерный факультет?
На секунду его глаза загорелись, но тут же потухли, он пожал плечами.
— Почему ты решил продать ферму? — внезапно спросил он.
— Потому что она стала нежизнеспособна. — Мне хотелось быть с ним по возможности откровенным. — Подумай сам. Рыночная цена ее, скажем, сорок тысяч. Это означает, что нормальная десятипроцентная прибыль от капиталовложения должна составлять четыре тысячи. А что происходит? Здесь не только не пахнет этими четырьмя тысячами, а, наоборот, ферма стоит мне несколько тысяч ежегодно. Ладно, честно говоря, я могу удержать их из суммы подоходного налога. Но все равно эта ферма — скверное капиталовложение. А я деловой человек.
— И что же? Ты деловой человек, и только?
— Что ты имеешь в виду?
— Ты ведь должен считаться и с бабушкой. Здесь вся ее жизнь.
— Как раз о ней я и забочусь в первую очередь, — возразил я. — Ты заметил, как она постарела за последний год? И все соседи продают свои фермы. Ей просто опасно оставаться одной здесь, так близко от границы с бантустаном.
— Выходит, что первопроходцы теперь снова становятся пограничными жителями? — то ли шутливо, то ли серьезно спросил он. — Не многовато ли у нас становится новых границ?
— Только не вздумай уверять меня, что ты заинтересован в ферме, — прервал я его идиотский вопрос. — Мы здесь и дня не пробыли, а тебе уже скучно.
Он обошел стол и взглянул в окно на долину. Стадо коров с мычанием возвращалось на ферму.
— Как странно темнеет, — сказал он не оборачиваясь. — Дома этого не замечаешь. Но здесь вдруг чувствуешь, словно ты один на целом свете.
В его годы я был столь же чувствителен. В наступивших сумерках между нами снова возникла мимолетная близость.
— Мы уже давно не здешние, — сказал я.
Он резко обернулся, словно взволнованный чем-то увиденным за окном: возвращающимся стадом, сгущающейся темнотой или чем-то еще.
— Думаю, ты прав, — неожиданно согласился он. — Лучше всего избавиться от этой фермы. Но бабушка, кажется, против?
— Она упряма как мул.
— Я могу поговорить с ней, если хочешь.
— Не надо, я сам разберусь.
— Она обсуждала это со мной. Я думаю, она чувствует…
— Что она тебе сказала? — подозрительно спросил я. Мне не хотелось, чтобы мать впутывала в это дело Луи.
— Да так, ничего особенного, — уклончиво ответил он. — Но думаю, я смог бы ее уговорить.
— Не стоит тебе вмешиваться в это.
Он помолчал с минуту, затем вышел, не закрыв за собой дверь. Я хотел было крикнуть ему, чтобы он закрыл ее, но передумал. Пора и мне уходить. Я придвинул старое кресло к столу и постоял немного, положив руки на его спинку. Кресло заберу с собой, оно будет хорошо смотреться в моем кабинете.
Я убрал папку в пыльный ящик стола, потом задернул шторы. За окном сгущалась тьма. Чувствовался запах навоза с конюшни. Уже на пороге я вдруг остановился, вернулся к полкам и вынул указку из-за томика Гиббона. Надо забросить ее куда-нибудь подальше. Нехорошо, если мать найдет ее, когда начнет паковаться.
9
На этот раз я застал Мандизи в коровнике одного. Я не люблю вмешиваться в их жизнь, но в данном случае я чувствовал себя обязанным поговорить с ним.
— Мандизи, что это за история с вашей женой?
— Nkosi? Что, господин? — угрюмо переспросил он.
— Мужчина не должен бить жену.
Он слил молоко в бидон, не утруждая себя ответом.
— Ваш ребенок был очень болен. Ему нужны лекарства.
— Ewe. Да.
— Тогда почему же вы ее так избили?
Он ничего не ответил.
— Мандизи, чтобы больше этого не было, вы меня поняли?
Он поднял ведро и повернулся ко мне, по-прежнему не говоря ни слова. Он был на голову выше меня, с бицепсами гладиатора — я видел, как они ходят под его дырявой рубахой.
— Если вы хоть раз еще ударите ее, вам придется покинуть ферму. Вы слышите меня?
Он молча пошел к сараям.
— Отвечай, когда с тобой разговаривают!
Полуобернувшись, он ухмыльнулся и двинулся дальше.
Вообще-то ни его поведение, ни его наглость, ни его тупость меня не касались. Но я не мог закрывать глаза, когда под угрозой находилась жизнь ребенка. К тому же, если он решил работать на белых и жить здесь, ему следует приспособиться. Для собственной же пользы.
Куда проще иметь дело с человеком вроде Чарли. Наши судьбы во многом были похожи. Он первый указал на это. Я, как ни смешно, возражал тогда ему. То был странный и неприятный денек, примерно месяц назад. Утром по поручению Южноафриканского фонда я возил по городу канадских бизнесменов, двух чрезвычайно приятных, интеллигентных джентльменов, готовых бросить благосклонный взгляд на наши национальные проблемы, и, разумеется, мне надо было показать им деревню ндебеле под Преторией.