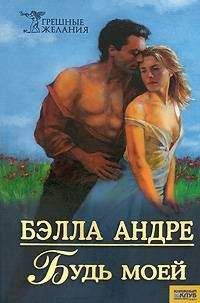АНДРЕ ЛАНЖЕВЕН - Цепь в парке
— А каким был мой отец?
Сапожник пододвигает свой стул поближе, чтобы не нужно было повышать голоса:
— Он был человек умный, другого такого умницы я не знал, но с загадкой. Он гораздо лучше нас все понимал, непохож он был на нас и… бунтовал, вот именно, бунтовал, и тогда никто не мог его понять, кроме твоей матери.
— А теток злило, что твоя мать его понимает, они из кожи вон лезли, чтобы она чувствовала себя несчастной. Потому что, по их понятиям, мужчина должен ходить на работу, приносить в дом деньги и смирно сидеть себе в уголке, пока для него не найдется еще какое-нибудь дело. Вот мой бедный Анри как раз такой — весь день стучит себе молотком и даже не пойдет пропустить стаканчик-другой — все держится за мою юбку.
— А насчет пива и женщин, это правда? Он и правда был пьяницей?
— Мария сама хороша, все же знают, что она выпивает. Как она не может взять в толк, что мужчинам иногда хочется пустить все под откос — просто так, для разрядки. Подойди-ка ко мне!
Она обнимает его одной рукой и шепчет на ухо:
— Брось ты об этом думать. У тебя были хорошие родители, как у всех детей. Жаль, что ее уже нет в живых, а то рассказала бы тебе, как сильно они любили друг друга.
— Они сказали, что он ее бил!
Он не спускает глаз с мамы Пуф, стараясь понять, не кривит ли она душой ему в утешение; она отвечает, ни минуты не колеблясь, и он замечает промелькнувшее в ее глазах удивление.
— Вот уж до чего договорились, оказывается, он ее бил! Чего только они не придумают! Может, он и ласкал ее при них?
Мягкий и спокойный голос сапожника спешит ей на выручку:
— Случалось, что он бунтовал и при ней. Но ее он никогда пальцем не тронул. Он все чувствовал острее других и, когда задумывался над вещами, о которых все прочие вообще-то не думают, приходил в такую ярость, что чуть об стенку головой не бился.
— Не думай ты больше об этом, мальчуган. Знаешь, я бы предпочла выйти замуж за такого человека, как он, а не за этого горе-сапожника, который даже за свою дочь постоять не способен. Надо было сказать Полю все как есть и выставить его отсюда раз и навсегда. Ох, да что же это я опять?
Она целует его с той же простотой, с какой дает грудь младенцу — все ее тело до краев наполнено покоем, и она не может не изливать его на других.
— Господи, представляю себе, что о нем-то будут плести, когда он отдаст богу душу! Страшно подумать. Что он всю жизнь стучал своим дурацким молотком, и ни на что другое не был способен, и еще прямо у меня под носом лазил бабам под юбки, а тощий был такой потому, что шлялся ночи напролет.
— А что такое бордель?
Сапожник улыбается, и это так возмущает маму Пуф, что она кричит, позабыв про старуху, спящую в кресле:
— Смотри у меня, негодяй, попробуй только ответить, я тебя выгоню на ночь к корове папаши Эжена, и, боюсь, похвалиться ей будет нечем!.. Это слово понимают только старые девы — их там грабят.
И она смеется, довольная собой, а Папапуф доволен еще больше.
Ему неприятен их смех — он означает, что ему сказали неправду.
— А шлюха? — спрашивает он как можно спокойнее. — Они сказали, что Джейн станет шлюхой, как и ее мать.
— Они так сказали? — переспрашивает мама Пуф с возмущением, не найдя сразу, что ответить.
— Для них любая женщина шлюха, если она нашла свой способ быть счастливой, а он им не по вкусу, — отвечает сапожник.
— Как Изабелла?
Оба замолкают и обмениваются тревожным взглядом. И ему становится стыдно, что он задал этот вопрос и невольно сделал им больно. Он говорит очень быстро, смеясь через силу:
— А вот мне уже не надо искать никакого способа. Во вторник меня опять отсылают, теперь уже в другой дом. Так решил дядя.
— Ну уж нет! Хватит! И как им только не стыдно, — возмущается мама Пуф. — Продержали тебя там с четырех лет до восьми, точно зверя в клетке. У нас будешь жить.
Но сапожник беспомощно разводит руками.
— Ничего тут не поделаешь, мать. Он опекун. Он может обратиться в полицию. Они ведь сгорят со стыда, если он останется у нас. А так все шито-крыто.
— Господи, и до этого додумались, уже нельзя теперь взять к себе бездомного ребенка. А вот собаку или кошку — пожалуйста.
Стиснув зубы, он отгоняет мечту об этом заказанном ему счастье, о доме с сиренью, о Терезе, Жераре, Мяу, близнецах, об избушке из книжки с картинками рядом с улицей Визитасьон, где нашла себе пристанище вся существующая в мире нежность, и даже Джейн.
— Вы не волнуйтесь! Я убегу вместе с Джейн, навсегда, — пытается он успокоить их.
— Бедный ты мой мальчуган! Ты хочешь, чтобы тебя, как Марселя, ловила полиция? Он побывал в трех исправительных домах, один из них находился чуть ли не в Онтарио, и только из третьего ему удалось наконец удрать. А ведь он был на десять лет старше тебя. Я все-таки попробую поговорить с твоим дядей… может, мне удастся его убедить.
— А почему уехал мой отец?
Он спохватился слишком поздно. Опять спросил не подумав и опять огорчен их замешательством.
— Он был совершенно убит смертью твоей матери. Это можно понять.
— Они не дали ему времени опомниться. Воспользовались тем, что он был вне себя от горя, и отправили тебя туда, — добавляет сапожник.
— Ох! Это ты, малыш? — Она еще не успела окончательно проснуться, а уже плачет. — Ты уже знаешь? Ох, что же с ним будет? Что с ним теперь сделают?
— Мы ему ничего не сказали, он еще слишком маленький, — объясняет ей сапожник, как ребенку.
— Ох, он взял ружье и на моих глазах застрелил Люцифера, сказал, что тот ему больше не понадобится. Ох, и еще велел мне уходить, потому что дома мне оставаться опасно. После того, что он сделал — а ведь он только защищался, — они, конечно, его убьют. Ох, они разыщут его, это точно.
— Крыса слишком спешил, потому что в его стакане на самом донышке осталось, — говорит он, желая показать, что он все понимает.
— Ты попал в самую точку, — удивляется сапожник. — Только вот беда — он даже не сможет допить его до последней капли. По нашей улице шатаются разные типы в форме МП, а может, они и не МП вовсе, кто их знает.
— С ним Баркас и Банан, ох, но что с них толку! И он даже не хочет уехать из города. У меня в деревне родня, там его в жизни не найдут.
Жаркая кухня погружается в молчание, полное смутных теней. Он смотрит на этих людей, которые уже не могут прийти ему на помощь, они поглощены своими собственными тревогами; и он удивляется, почему вдруг нависла угроза над таким безмятежным маленьким счастьем и как могло проникнуть безумие сюда, где все было так разумно.
Не признаваясь в этом даже самому себе, он втайне надеялся, что после этого утомительного, отупляющего дня сможет здесь переночевать; теток он больше видеть не хочет, и он уверен, что Джейн непременно появится здесь при первой возможности. Он чувствует, что их ласковое гостеприимство иссякает и ему надо набраться духу и вернуться к теткам или же провести ночь на черной лестнице.
Где-то в доме заплакал Мяу. Мама Пуф поднимается, опираясь обеими руками на стол, и шумно вздыхает. Папапуф спешит ей на помощь.
— Пуф! Господи, где же Изабелла? Хоть бы она поскорее вернулась! Больше мне ничего не надо. Да отцепись ты от меня, я как-никак помоложе тебя.
Она входит в дом, улыбаясь ему вялой улыбкой, и в глазах ее не осталось ни капли молока.
— Можешь переночевать здесь, если хочешь. У близнецов в кровати есть место, — говорит сапожник, уставившись в пустоту, и губы у него дергаются, словно он глотает гвозди.
На стенных часах уже давно пробило десять.
— Большое спасибо. Но я пойду домой. Не желаю больше ни минуты носить их красивый костюм.
— Ну тогда спокойной ночи, мальчуган! А почему не желаешь? Ведь завтра воскресенье.
Очутившись на улице Лагошетьер, он поворачивает в сторону моста — ему необходимо поговорить с Крысой, и еще ему хочется найти Изабеллу и сказать ей, что папа и мама Пуф заболели, но они тотчас поправятся, стоит ей вернуться.
Он снимает туфли, связывает шнурки и перекидывает через плечо.
На улице пустынно, только на крыльце под навесами, с которых облезает все та же темно-зеленая краска, сидят тихие парочки, которым нет до него никакого дела.
Стоя на красной табуретке в кухне, она развешивает белье, он только и помнит эти ноги на табуретке и мраморный лоб в белоснежном атласе. И еще запах, холодный и теплый одновременно, как в прачечной. И все.
Теперь он понимает, что, кроме семей, состоящих из матерей, детей, дядей, теток, есть другие, гораздо большие, подобные племени, члены которых гораздо лучше знают друг друга, потому что в жизни им отведено одинаковое место; так он сам принадлежит к большой семье Крысы, и вовсе не потому, что Крыса живет по соседству с тем домом, который он давно забыл, а потому, что Крыса был другом Марселя, потому, что он никогда не будет похож на обычного взрослого, он вечно вытворяет такое, что у всех голова кругом идет, все мечется и мечется, «бунтует», как сказал сапожник. Теперь он понимает, что есть целое племя людей, которые в отличие от всех прочих не подчиняются порядкам, установленным неведомо кем, и есть другое племя, гораздо многочисленней, его представители носят галстуки и пиджаки, они с образованием, но без гонора, в течение двадцати, а то и тридцати лет подряд каждый день отправляются на работу в одно и то же заведение и превыше всего чтят выбитые на монетах отрубленные головы заколдованного короля, зато даже не удостаивают взглядом шарик, который так красиво переливается на солнце; эти люди выпускают по утрам на улицы города поливальные машины и смывают с них веселье, придумывают законы, запрещающие маме Пуф взять его к себе, но зато открывающие пустые замки, где за стенами в парках без деревьев четыреста детей будут терпеливо ждать своего часа, когда станут почти взрослыми и, как Крыса, угодят в ловушку в этой запретной для них стране, где сплошная мешанина из игр и серьезных дел, важной работы и нелепых грузовиков с непонятным грузом. Тамошние дети — это Баркас, Банан, он сам, и еще Марсель, а может, и человек в голубом с недавних пор… и еще тот, другой, которого так стыдились тетки, — все они из большой семьи Крысы. Папапуф из другой семьи, он пока не может подыскать ему родню, ведь он здесь недавно и так еще мало видел. И Джейн тоже. Наверно, на свете очень много разных семей, которых он и узнать-то не успеет.