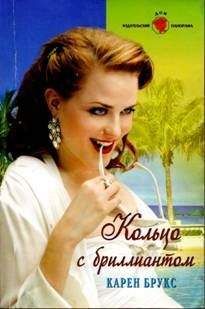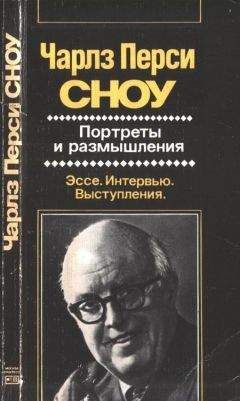Чарльз Сноу - Коридоры власти
— Если он перестанет подавать признаки жизни, это существенно стабилизирует ситуацию.
Эллен по-кошачьи фыркнула:
— О да, это стабилизирует.
И усмехнулась криво, зло — дескать, все с вами ясно, мистер Квейф. Роджер приберегал эмоции для того момента, когда сможет обнять ее.
Я вдруг сообразил: любовь-то у них взаимная. Роджер тоже любит Эллен. Не увлечен, как можно ожидать от мужчины его возраста и самомнения. Нет, он восхищается Эллен в той же степени, в какой восхищается Каро, и вот что странно: причины восхищения сходны, ибо и женщины эти не столь различны, как может показаться. Эллен тоже свойственны прямота и благородство; ее можно назвать светской женщиной, конечно, до известных пределов — у нее больше поводов для недовольства светом. Пожалуй, она тоньше, глубже понимает жизнь. Наверно, Роджер мысленно ставит себя ниже обеих своих женщин. И разумеется, между ним и Эллен — чувство, и очень сильное: я сидел будто под перекрестным огнем. Чем объясняется сила их чувства, мне скорее всего узнать не суждено. Что определенно к лучшему. Тут как с чтением любовной переписки: от многочисленных подробностей картина — результат одного вдохновенного выплеска на холст — начинает производить впечатление кропотливой, портящей глаза работы мозаиста-монументалиста.
Присутствовал и еще один момент. У меня были свои запутанные причины поставить на место шантажиста; свои причины, не менее запутанные, были у Эллен. Но и Роджер от нас не отставал. Роджер любил Эллен. Однако, некоторым странным образом, чувствовал, что любить ее не имеет права. Не только и не столько из-за жены. Его считали человеком, созданным для политической карьеры. В целом правильно считали. Что до результативности его действий как политика, я все еще этой результативности не видел. Я не знал, какие шаги Роджер дальше предпримет. Зато не сомневался: Роджер надеется принести пользу, хочет принести пользу, пожалуй, сильнее, чем сам думает. И вот он вбил себе в голову, что гарантии пользы от него выше, если он, подобно древним подвижникам и пророкам, чем-то пожертвует. Конечно, отдает атавизмом, суеверием. Порывистая, готовая на заклание женщина и грузный мужчина с непроницаемым взглядом; миф о Самсоновых волосах на задворках сознания — такое послевкусие осталось от вечера в пабе.
Мы с Эллен обсуждали, что предпринять, Роджер по-прежнему отмалчивался. Частные детективы? Нет, бессмысленно. Тут меня осенило. Этот Худ служит у одного из конкурентов лорда Луфкина. Вот если бы Луфкин с этим конкурентом поговорил…
— А вы, Льюис, уже видели плоды подобных бесед? — внезапно спросил Роджер.
— Один раз видел, — сказал я.
— То есть Луфкину придется все рассказать, — вслух размышлял Роджер.
— Ну, все не все, а многое — придется.
— Я против, — заявила Эллен.
Роджер выслушал ее, но продолжал:
— А каковы, Льюис, пределы вашего доверия лорду Луфкину?
— Лорд Луфкин умеет хранить чужие тайны, — ответил я.
— Обнадеживает. Только этого недостаточно.
Я сказал, что Луфкин, даром что бесчувственный, со мной в приятельских отношениях. Добавил, что Луфкин однозначно на стороне Роджера. Затем прошел к барной стойке взять еще выпить — пусть Роджер с Эллен пока обсудят. Барменша внезапно обратилась ко мне по имени. Я в этом пабе завсегдатай, еще во время войны сюда заглядывал, когда жил в Пимлико. В том, что барменша назвала меня по имени, ничего зловещего не было, только она почему-то говорила шепотом.
— Дайте-ка я вам кое-кого покажу, — сказала барменша.
На секунду я оторопел. Быстро, не поворачивая головы, огляделся — вернулось ощущение слежки. Людей было не много, подозрений никто не внушал.
— Знаете, кто это такой? — Теперь в шепоте слышалось благоговение, палец указывал на дальний столик. Там, на высоком барном табурете, за куском телятины, пирогом с ветчиной и бокалом портера, сидел ничем не примечательный гражданин в синем костюме.
— Не знаю.
— А это, — продолжала барменша (в шепоте теперь слышался священный трепет), — шурин Гроббелаара.
Звучало как бред сумасшедшего; с тем же успехом можно было счесть Гроббелаара крупной фигурой. Ничего подобного — крупные фигуры были вне компетенции моей барменши. Роджера, например, она не узнала, а назови я даже его имя — оно бы осталось пустым звуком. Зато барменша отлично представляла, кто такой Гроббелаар. И я представлял. Гроббелаар был южноафриканец, весьма уважаемый, но невезучий. Лет пять назад — он жил тогда, насколько мне помнится, в Хаммерсмите — его убили ради какой-то смешной суммы, около сотни фунтов. Само убийство свершили стандартным способом, а вот дальше пошла готика. Ибо труп был расчленен, причем явно неопытной рукой, расфасован в плотную бумагу, в какую заворачивают бандероли, каждая «бандероль» укомплектована кирпичами, и все они брошены в реку, на участке от Блэкфрайерс до Патни. Злодейство, вдохновленное самим городом — у нас, по представлениям иностранцев (о каковых представлениях барменша, на свое счастье, не догадывалась), потенциальные жертвы ощупью пробираются сквозь бесконечный туман по бесконечным улицам. А если забыть о готике — мы с барменшей сошлись на почве этого злодейства. Теперь нас свел шурин несчастного Гроббелаара — барменша полагала, что указывает мне, избранному, на объект тоже избранный, отмеченный печатью сверхъестественного. Вероятно, этот шурин тоже весьма уважаемый гражданин, никакого отношения к зловещим событиям не имеющий. Не кажется ли он, мистер Элиот, сэр, малость не от мира сего — все же этакое в семье? А вам не кажется ли, мэм, что за пять лет аура сверхъестественного малость поизносилась? По тону барменши я понял: аура сверхъестественного не макинтош, она поизноситься не может.
— Это, — повторила барменша, — Гроббелааров шурин.
За столик я вернулся усмехаясь. Эллен видела, как я шептался с барменшей, подняла проницательный взгляд. Я покачал головой — дескать, ничего, так.
Они решили не впутывать Луфкина. Пусть Эллен напишет непосредственно шантажисту: не вдаваясь в подробности, заявит, что не имеет желания и дальше получать от него письма, что вся последующая корреспонденция будет возвращаться отправителю. И точка. Вовлечена окажется она одна, а шантажист поймет, что рассекречен.
И мы закрыли тему, посидели еще в пабе — стало веселее, народ прибывал, барменша сбилась с ног, однако взгляд ее постоянно возвращался к человеку в синем костюме.
Глава 4
Симптомы
И вот, еще до окончания парламентских каникул, опубликовали законопроект. Эта связь событий явилась не только приятным совпадением. Мы хотели, чтобы сформировалось официальное мнение, и желательно максимально определенное. В плане сроков это был для нас оптимальный вариант. Едва проект за номером 8964 вышел, сторонники Роджера принялись расшифровывать знаки.
Из прессы мы не много почерпнули. Одна газета вопила: «Накрылась наша обороноспособность!» К нашему удивлению, слоган не сразу вошел в обиход. По большей части комментарии были предсказуемы — мы и сами могли бы их написать, вместо того чтоб газеты перелопачивать. На самом деле мы до некоторой степени их и написали, ибо два-три самых влиятельных корреспондента оказались друзьями или учениками Фрэнсиса Гетлиффа. Аргументы им были известны не хуже, чем Фрэнсису или Уолтеру Люку. Они имели навык чтения законопроектов, несмотря на высший бал за намеренную туманность законопроекта Роджера. Они смирились с тем фактом, что ответ в конце концов останется всего один.
А опасность заключалась в том, что мы слушали только себя. В данном виде политики слушать только себя — это, можно сказать, профзаболевание. Сегрегируешься от врагов, расслабляешься в собственных отголосках. Вот и одна из причин, почему наше начальство отличал изрядный оптимизм — куда более изрядный, чем наш. Даже Роджер, далеко не так подверженный иллюзиям, понимавший, что момент настал, что надо точно знать мнение заднескамеечников, — Роджер, и тот затаскивал себя в «Карлтон» или «Уайтс» одним усилием воли.
Кабинет законопроект принял — пошел на компромисс. Однако Роджер знал (косноязычные личности вроде Коллингвуда порой выражаются вполне понятно), каковы условия этого компромисса. Если он, Роджер, нарушит баланс, если вздумает защищать свою линию своим же политическим весом — опасности не миновать. Премьер и его приближенные — люди проницательные, но привыкли прислушиваться к людям не столь проницательным. А если Роджера уже и заднескамеечники подозревают, значит, для подозрений и почва имеется. Иными словами, Роджер мог пострадать от собственной партии.
Что касается меня, я плохие новости выслушивать люблю не больше Роджера. Однако в следующие две недели я обзванивал знакомых и использовал свои клубы по назначению, забытому со дня женитьбы на Маргарет. Знаков набралось негусто, да и насчет направленности этих, малочисленных, я не был уверен. Бредя по Пэлл-Мэлл ветреным, пронзительным январским вечером, я думал, что в целом ситуация всего на каких-нибудь полтона хуже ожидаемого. Я поднялся на крыльцо клуба, членом которого не состою, но в котором была назначена встреча с моим коллегой по Уайтхоллу. Человек этот возглавлял ведомство; уже через несколько минут беседы я ободрился. Из его торопливого объяснения — он поглядывал на часы, боялся опоздать на поезд (дома, в Ист-Хорсли, его ждали к ужину) — следовало, что наши шансы заметно возросли. В колоннаде я заметил Дугласа Осболдистона. Знакомый мой жал на прощание руку, я решил остаться — хотел перекинуться парой слов с Дугласом. До какой степени неуместен глагол «перекинуться», я понял, когда Дуглас вышел из тени. На нем лица не было.