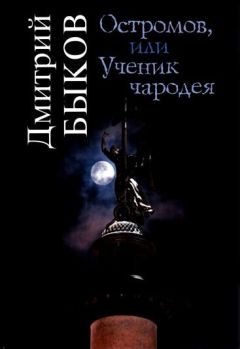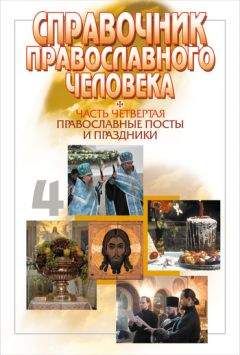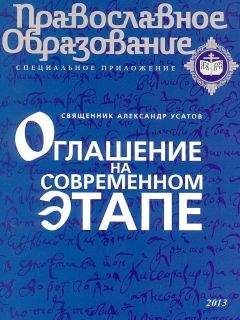Дмитрий Быков - Остромов, или Ученик чародея
— Я гулять хочу, — сказала Варга, глядя прямо на Даню. — Идемте на Елагин.
2— Значит, вам тоже все это не нравится? — спросила она.
— Не знаю. Так сказать легче всего. Мне не нравится по частям, а в целом нравится. Мне даже думается, что для чего-то такого я и родился.
— А я нет, — сказала она. — Я родилась, чтобы я лежала на диване и иногда танцевала, когда захочу, а меня чтобы перьями обмахивали. Это называется чудо в перьях.
Даня расхохотался.
— Это вам не здесь надо было, — сказал он.
— Говори мне «ты». Да, не здесь. У вас здесь холодно и все дураки.
— У кого — «у нас»?
— Это я вам говорю «вы», — сказала она, и Даня опять засмеялся. С ней было прекрасно.
— И чтобы я лежала, — повторила она, — и на животе у меня был шоколад. Я бы брала и ела, потом бы вставала и он падал, и никто не кидался бы поднимать. Как по-вашему, что будет дальше?
— Дальше? — задумался Даня. — Дальше, наверное, ты танцуешь, вся в шоколаде…
— Дурак. Я спрашиваю не про это, а про здесь.
Они шли вдоль пахучей, бурой майской воды с зелеными точками в глубине. От земли шел легкий, вечерний, свежий холод. Над Невкой низко висел красный, отчетливо приплюснутый солнечный шар. Другой шар, сплющенный с боков, болтался над маленькой девочкой впереди.
— Это опять трудно определить, — сказал Даня медленно. — Я чувствую, но не могу рассказать.
— Сейчас я возьму тебя за руку, и ты сможешь, — сказала Варга. Он чуть не сошел с ума от прикосновения тонких холодных пальцев, точно костяных: в них была теперь драконья сила. — Ну? Что ты застрял? Идем.
— Я все пытаюсь сказать. Ну, если в самом общем виде… — Он и хотел быть смешным, и боялся этого. — Мне кажется, что это — как будто убрали рельсы, и началась земля. Вот была цивилизация, как это называли, и культура, и они даже между собой спорили, как у Шпенглера.
— Шпенглера я знаю, — сказала она небрежно.
— Ну и как он вам… тебе?
— Некрасивый, — сказала Варга. — Напротив нас жил, противный, смотрел скользкими глазами.
Она была прелестна, но говорить с ней всерьез он не мог.
— Ну-ну, — сказала она, — очень интересно. Рельсы, а дальше глина. И что?
— Именно глина! — воскликнул Даня. Только с такими, как она, имело смысл говорить всерьез. Ничего не знает, но все понимает. И он заговорил уже лихорадочно, торопясь, как всегда, когда увлекался. — Было Просвещение, но оно закончилось — словно недостаточно было предупреждения во Франции, когда, помнишь, девяносто третий год, это случилось еще раз, и теперь уже окончательно. Рациональный мир приводит вот к чему. Рациональный мир кончился, и после этих рельсов началась глина. Но у нее свои законы, и штука теперь заключается в том, чтобы понять, как она устроена. Это одновременно проще и сложней, чем рельсы. Возьмем химию. Неорганическая химия очень сложна, потому что множество элементов, а органическая совсем проста — углерод и еще что-то, но именно ее я никогда не мог выучить, потому что нерационально. Понимаешь? Там может быть так и сяк, а я привык к строгим конструкциям, ясным валентностям, я понимаю, как они устроены. Все сложней и гораздо проще, сложней и грубей. И сейчас наступает что-то органическое, и это примерно как ты танцуешь: с балетом это, сама понимаешь, соотносится сложно. Балет — все-таки строгое искусство, а твое искусство непредсказуемо, сегодня ты станцуешь так, завтра сяк, и во всем этом будет прелесть дикости, настоящая жизнь. Один одно увидит, другой другое, а как правильно — никто не скажет. Я и рад этой глине, и боюсь ее, потому что…
Тут он остановился, как всегда, когда в развитии мысли наступал неожиданный поворот.
— Ну, ты меня хочешь и боишься, и дальше? — подбодрила она, снова переведя все в собственный регистр.
— Не совсем, но допустим. — Это сокращало расстояние между ними, и он обрадовался. — Я про то, что мне не совсем понятно, как будет теперь с людьми рациональными, и, например, с попытками рационально обуздать эту глину. Ну хорошо, вот она развалила конструкцию и поперла отовсюду. Значит, надо для нее построить какую-то новую конструкцию, которую они и хотели сначала, с учетом всяких этих советов и прочего на местах. Но я почему-то вижу, что и советы, и прочее отстраивается в старую форму, и тогда может быть одно из двух, только одно из двух. Если не оба сразу. — Он опять остановился. — Либо глина порвет форму и будет рвать ее всегда, раз за разом, пока все-таки не установит какую-то свою, в виде, допустим, горшка… — Он засмеялся, но она смотрела строго. — Либо форма так сожмет глину, что она утратит всякую живость, всю эту свою органику, и вместо дворца мраморного, который только что был, получится дворец глиняный. То же самое, но из другого материала.
Он был уверен, что она понимает, хотя сам едва угонялся за собственной мыслью.
— Но чтобы строить новую форму, — договорил он, слегка задыхаясь (отвык от длинных монологов, давно не думал вслух, да и не с кем было), — надо по крайней мере изучить законы этой глины. Она хаотична только на первый взгляд, а там, внутри, сложная органическая жизнь. Какие-то, допустим, очень крепкие горизонтальные связи. Удивительная солидарность. Способность принимать любую форму. Легкость слепления, то есть, я имею в виду, когда ее порвали, она легко слепляется опять, и это народное тело точно так же. После войны, скажем. Сейчас уже не скажешь, что воевали, а ведь друг с другом, сами с собой, все с теми же, с кем сегодня вместе работают. Ну, и другое: почему, например, из глины нельзя сделать двигатель, но можно горшок? Все это надо изучить, потому что она существует веками, и все это время организовывает себя сама, но просто ее слишком сильно придавили, а потом этот гнет ослаб, и она вырвалась естественным путем, как, знаешь, в «Медном всаднике». Ведь про что в действительности «Медный всадник»? Про то, что не надо чересчур оковывать гранитом, а то вырвется стихия и первым съест того, кто ни в чем не виноват… Ну вот, они оковали, а потом треснуло, и теперь надо строить для глины новую форму, или хотя бы дать ей самой нащупать, как ей удобно. А из нее опять делают дворцы и набережные, и все это будет глиняное, пятого сорта, и скоро треснет, и тогда я уже не знаю… так далеко я не смотрю…
— Ну и глупо, — сказала она. — Сначала было весело, а потом скучно.
Даня устыдился.
— Со мной неинтересно, да, — сказал он зло.
— Не куксись. С тобой может быть интересно, но надо же знать, что делать. Пришел в гости — пей чай, потом ешь пирог, потом танцуй. А если все время есть пирог, будет скучно. Сейчас надо целоваться.
Даня оробел. Он чувствовал, что до этого дойдет, но целоваться не умел совершенно: было два опыта, один шуточный, другой посерьезней, но оба раза девушки были еще младше и невинней, вырывались, в конце концов все кончалось борьбой, редким касанием губ, взамен предлагались щеки, — словом, стыд, детство.
Он огляделся. Никого не было. Девочка с шаром ушла. Острова были пустынны в этот час, в это время. Варга прислонилась к дубу и смотрела с вызовом.
Даня отважно закрыл глаза, широко открыл рот и ринулся к неиспытанному, но она уперлась руками ему в грудь, тихо смеясь.
— Не так. Стой смирно.
Он попытался ее обнять.
— Смирно стой. Глаза открой, я не страшная. Теперь учись.
Она осторожно, очень тихо стала целовать его в углы губ, обдавая его слабым запахом повидла и все той же амбры, несколько раз лизнула, один раз больно куснула. Он дернулся.
— Не дергаемся, стоим прямо, — проворковала она.
Даня кивнул, чувствуя себя идиотом.
— Целоваться, — приговаривала Варга воркующим шепотом, — надо не так, как будто ты ешь девушку, а так, будто сдуваешь пыльцу с бабочки. Девушка не еда, девушка — бабочка.
Сейчас она разнежит меня, понял Даня, а потом — как того дракона…
— Девушка все сделает сама, — приговаривала Варга, обнимая его за шею. Тут он утратил всякую сдержанность и принялся-таки целовать ее куда попало — в глаза, в холодный нос, в горячий рот, ускользавший и уклонявшийся.
— Ничего не умеет, совершенно дикий, — сказала Варга. — Понравилось, что ли? Хватит. Хватит, я сказала, не то больше никогда!
Он смиренно застыл.
— Глина полезла, — повторила она загадочно. — Ну а хоть бы и глина? Пошли. Никого не осталось приличных, но на два раза сгодишься. Сегодня больше ничего не будет. Я сама к тебе теперь приду. Ты где живешь?
Даня, с трудом ворочая пересохшим языком, сказал.
— Там и сиди, и жди. — Она расхохоталась. — Ладно, веди меня домой, тут скоро станет темно и страшно. Вылезут ужасные насильники, меня изнасилуют, а тебя сожрут.
— Слушай! — не выдержал Даня. — Ты чего-нибудь другого можешь ждать от людей?
— А что со мной еще можно делать? — изумилась она. — Жрать меня неинтересно, я худая.