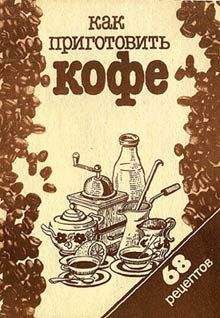Ирина Муравьева - Портрет Алтовити
Почему она так долго не понимала того, что поняла сейчас, выйдя из подвала на улицу? Уехать отсюда – это главное. Побыстрее уехать. Оторваться от него. Кто он ей теперь? Плоть, помноженная на ее плоть. Ложь, помноженная на ее ложь.
С Сашей за руку – в другой руке пакет с только что купленными калачами – Ева шла вдоль Патриарших прудов, чувствуя, как все это, начиная от вспыхивающих сугробов и кончая лицами попадающихся навстречу людей, обращено прямо к ней.
С Сашиной рукой в руке – под еле заметным снегом внутри светло-желтого солнца – о, как сейчас важно одно: вспомнить! С Сашиной мокрой от снега варежкой, внутри которой сжимаются и разжимаются маленькие пальцы, – о, как нужно продумать все заново, пока эта мокрая горячая варежка еще в ее ладони, пока их никто не видит, не слышит, не трогает!
Когда наступила Москва?
Не сейчас, конечно, а тогда, когда она жила здесь вместе с Катей и Ричардом. Нет, еще раньше, когда приезжала студенткой – несколько раз – и оставалась подолгу, на полтора-два месяца. Какой-то магнит ее притягивал. Да, магнит. Хотя каждый раз она вздыхала с облегчением, когда оказывалась в самолете, летящем обратно в Нью-Йорк.
Москва была игрой, щекотала нервы. Она играла в свою половинчатую русскость, в свой безупречный язык, во все, что делало ее особенной – здесь и ни на кого не похожей – там.
Оказавшаяся, к ужасу матери, ребенком нелюбимого человека, отвергнутая за это в первую минуту своего появления на свет – она была разъята изнутри, разорвана. Их с Зоей пичкали русскими сказками и заставляли слушать русские оперы. Каждый вечер мать – на высоких каблуках, причесанная, словно она выступает на сцене, – читала им вслух по-русски. За окнами квартиры маслянисто чернел Гудзон, в небе крутились рекламы банков и телефонных компаний, а они со вспотевшими от напряжения подмышками в сотый раз анализировали сон Татьяны и пересказывали своими словами поэму «Мертвые души». В школе две половинки жизни – домашняя, материнская, и учебная, американская, – наскоро срастались, слегка и привычно кровоточа. Они срослись бы и крепче, но мать была начеку, мать была рядом. Все глубже погружаясь в семейные предания, становясь все заносчивее от своего допотопного дворянства, она, не замечая, что дочери уже взрослые, продолжала больно стукать их по затылкам за ошибки в русской грамматике и, все нежнее листая неподъемные альбомы с полурассыпавшимися фотографиями, напоминала им, что, когда большевики прекратят слежку (у матери была легкая шпиономания!), нужно будет непременно съездить в Россию, проверить, что сталось с их арбатским домом, из которого в двадцать первом году ее увозили ребенком.
Сама заболевшая от разрыва с тем, которого жаждала (куда-то он потом вовсе исчез из Нью-Йорка!), мать мстила дочерям, разрывая и их, нимало не заботясь о том, как будут жить эти дочери, которым она наскоро свернула шеи, чтобы глаза их смотрели не прямо перед собой, а туда, где дотлевали дорогие ей тени и пенились приукрашенные, напрягшиеся воспоминания.
На поверхности все выглядело пристойно и просто. Имя – Ева, фамилия – Мин (выйдя замуж, оставила девичью!), русская по матери, китаянка по отцу, окончившая отделение славянских языков Йельского университета. Живет и работает в Нью-Йорке, думает на обоих языках, говорит на английском так же, как на русском. Муж ее Ричард Гланц, умерший полтора года назад, похоронен на протестантском кладбище на границе со штатом Коннектикут в одной могиле с дочерью Катей, незадолго до смерти родившей мальчишку от черного островитянина.
Значит, с Москвой – холодной, просторной, с грязными подъездами и вкусными магазинами, полной нищих в переходах метро, проституток, книг, «Мерседесов», умирающих по углам стариков, уютного вечернего света в высоких окнах, жадных и расточительных мужчин, снега, страха, – значит, с этим городом ее ничего и не связывает! Не говорить же всерьез о том, что она не может жить без московских театров, новой постановки «Мертвых душ» у Фоменко, арбатских переулков, которые ее покойная мать – окажись она здесь – в жизни бы и не узнала!
Что ей Москва с этими постоянно попадающимися навстречу словно бы знакомыми лицами, которые, как кусочки мяса, вздрагивают на раскаленной проволоке памяти?
Почему не вышло с Грубертом, которого она выудила из глянцевого черно-белого нутра материнского альбома?
Или – несмотря на свое жуткое сходство с тем, кто должен был быть ее отцом, – Груберт показался чужим?
Из чужой жизни?
Не тот отец, сумасшедшая мать, испуганный любовник! А Ричард, ее покойный муж?
Она приостановилась и закинула голову. Любая мысль о Ричарде давно соединялась со всем, что находится над землею, будь то снег, дождь или небесная пустота.
А, Господи, при чем здесь снег? Все мы далеки друг другу, все мы страшно, без малейшей надежды – далеки, все мы предаем друг друга! И Ричард, которого она не любила и который так неистово мучил ее за это, – он предал ее не меньше, чем она его! Потому что ему нужна была ее любовь, и он – теперь она поняла это, теперь это стало ясным, как дважды два, – он ненавидел ее за отсутствие любви, он пил из нее кровь всякий день, всякую минуту!
Не подозревая об этом.
Всякое несчастье вдвоем – осенило ее – есть одновременно и предательство друг друга. Потому что разве на муку, разве на пытку взаимную соединяются люди?
Не Томаса она искала – Ева чуть не замычала вслух – не его, а себя! Дом на Арбате, который, наверное, сто лет как снесли! О котором она и помнить не помнила, думать не думала!
Не Томаса она искала, а того, что мать заложила в них с Зоей, чему они подчинились!
Она вдруг почувствовала, что ей не хватает Ричарда.
Увидела его – худого, длинные, с острыми локтями руки, острые колени, лысый череп после химиотерапии, – сидящего на диване.
Тихий. Со светлыми спокойными глазами.
Это было их лучшее время.
«Прости меня». – «Нет, ты меня». – «Нет, ты не виновата, ты меня прости». – «Я не виновата? Ты с ума сошел. Прости меня». – «Ты ни при чем. Это все я, я, досталось тебе со мной, прости меня».
Ах, как здесь холодно, как темно, женщины и мужчины пьют, старухи злы, улицы плохо освещены и неряшливы! Но ведь она уже привыкла к чужой квартире, как к своей собственной, и вид угрюмых московских крыш по утрам кажется ей роднее, чем красный, с венецианскими решетками на окнах особняк напротив ее нью-йоркского дома.
Почему?
Да кто ей ответит на этот вопрос?
А ведь до сегодняшнего утра в ней дрожала надежда, что она вот-вот поймет, как ей дышать, о чем думать! До сегодняшнего утра Томас, его близость, руки, губы, дыхание – внутри города, втиснутого в ее мозг с рождения, – все это, казалось, имело прямой жизненный смысл, натягивало на ее тоску край одеяла!
Значит, все равно нужно было пройти через то, что она прошла. Значит, именно здесь, в Москве, где она должна была соединиться с Томасом, она пыталась соединиться с собой.
– Может, ты решила вообще остаться в этой банановой республике, – кричал ей Ричард пять лет назад. – Оставайся!
– I don’ t want to go home yet, – сказал Саша. – I want to go to MakDonald. Let’s go, I’ll show you something, Eva.[64]
Вышли на Тверскую. Поравнялись с «Националем».
Из подъезда вышел высокий, во всклоченной серо-пестрой ушанке.
– Daddy! – на всю улицу завопил вдруг Саша и вырвался из ее руки. – It was you![65]
* * *Доктор Груберт позвонил секретарше и назначил на тринадцатое января трех пациентов. Нужно приступать к работе, пора. Две недели прошло после операции. Девять дней со дня смерти Николь.
Вчера, когда Майкл заснул, они втроем – Айрис, МакКэрот и он – бегло обсудили то, что происходит. МакКэрот, кажется, очень расположился к Айрис. Ему жаль ее. Айрис все время всхлипывает и вытирает слезы. Если, конечно, Майкл не видит. При Майкле она сдерживается. Доктору Груберту стало казаться, что Айрис понимает все, что касается Майкла, объемнее и острее, чем он.
Несправедливо, особенно если учесть, что она вообще не видела сына больше трех месяцев.
– То, что больные люди часто воображают себя реинкарнацией Христа или Магомета, – это одно. С этим мы постоянно сталкиваемся, – сказал вчера МакКэрот, и Айрис так и впилась в него своими голубыми, распухшими от слез глазами. – Но чтобы человек, оставшийся внутри своего «я», чувствовал на себе такую ответственность за происходящее – это совсем другое. Это вопрос организации личности, нравственный вопрос. И, честно говоря, это опрокидывает наши представления.
– Медицинские представления? – сорванно спросила Айрис.
МакКэрот кивнул.
– Но нельзя же лечить человека от излишка совести! – задохнулась она.
– Мы и не собираемся. Мы лечим депрессию, сопровождающую его гипертрофированную совесть, больше ничего.
– Вы думаете, что можно разобрать человека по ниточкам? Отделить одну ниточку от другой?