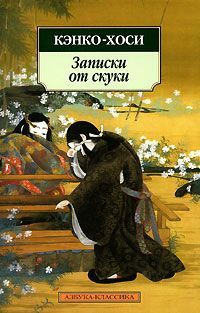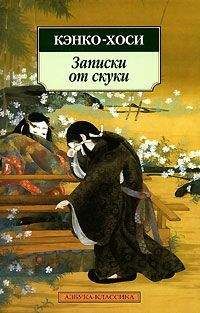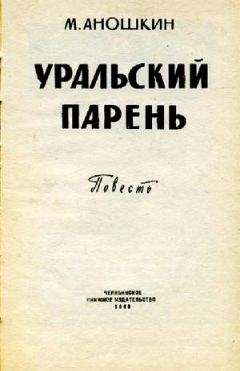Михаил Кононов - Голая пионерка
Уснула Муха в слезах, но отчасти уже успокоенная. И приснилась ей мама — Зинаида Владимировна. Впервые приснилась после того дня, когда бабушка Александра молча дала ей теткино письмо и Муха узнала, что ни мамы, ни папы больше на свете нет и не будет.
…Прямо к ней на топчан опустилось густое, искрящееся молочное облако нежной радости, — разом утешая Муху во всех ее терзаньях болящего тела и души ее, в миг успокоенной и прежде тела прильнувшей к облаку счастья. Муха, сладко вздохнув, прижалась к маминой груди, обняла ее, плача и вытирая щеки о теплое облако. Она отлично понимала, что находится сейчас во сне, но сон вокруг какой-то особый, не простой и не стратегический, а как бы иная некая жизнь, — меж сном и явью мреет она, как летнее полдневное марево, что размывает плоть видимой жизни, не обращая бодрствующее вещество в проницаемый невесомый сгусток смешанного с тенями света.
Мама смотрела в потолок землянки, лицо у нее было темное, и взгляд неподвижен, как у мертвой. И Муха почувствовала вдруг, что никакая она не Чайка и никогда не была ею, что только лишь этого родного тепла она и искала в своих полетах, к маме рвалась, домой, понежиться так вот, поплакать всласть, уже спокойно, уже зная наверняка заново: это тепло, и нежность к тебе, и обнимающий, лелеющий покой — это все твое, твое собственное, и никуда не уйдет, не исчезнет никогда, навсегда тебе принадлежит по самому прямому праву и будет вечно тебя утешать, согревать и любить, а разлука коротка, скоро снова мамочка будет рядом каждый день, каждое воскресенье выходное, да и по будням тоже. И только от лица мамы, запрокинутого в глухой тоске, шла тревога, неизвестная Мухе, чуждая ей неким неизведанным, нежитейским смыслом.
— Мамочка! Когда же ты заберешь меня к себе? Мамулечка! Мамуля моя родненькая…
Муха зарывалась в молочное облако, млела в нем, пронизанная разом всею памятью мира семьи, общим с мамой дыханьем. Как можно жить без этого? Ведь без этого — не жизнь, а смерть!
— Когда, мам? Я так соскучилась за тобой!..
— Не спрашивай! — не глядя на нее, коротко махнув рукой, сказала мама.
Муха заплакала сильней, понимая, что никогда не узнает того, о чем должна почему-то молчать мама, знающая, разумеется, все.
— Никого, никого у меня нет! — почти крикнула Муха, рыдая и задыхаясь, приходя в ужас оттого, что кричит на маму и требует недозволенного с укором — словно бы та в чем-то виновата. — Ни одного человека живого не осталось! Зачем ты так, мамочка? Что я сделала?!.
Облако колыхнулось, и Муха увидела с ужасом, что и мама плачет, плачет беззвучно и глубоко, как умеют только взрослые, — не нуждаясь в утешении, ведь невозможно маленькой девочке утешить такую непомерную, такую непостижимую пугающую тайну далеких огромных тягостей совершенно иного естества.
— Мама Люся у тебя, — сказала мама, горестно улыбаясь, и не было понятно, в утешение ли, в насмешку ли Мухе говорит она эти странные слова, ободряет ли, предупреждает ли о грозящей опасности — или просто шутит над своей глупенькой Мушкой.
— Солнце еще ребенок, — добавила она со вздохом, вовсе уж непонятно, едва ли не с отчаяньем — и вновь колыхнулось и как бы вскипать изнутри стало молочное облако, началось в нем неспешное подспудное броженье — как в закипающей кастрюльке с манной кашей, — и еще, еще теплей, еще слаще с мамочкой стало Мухе, вновь и еще глубже успокоенной теплыми токами, омывающими ее существо со всех сторон, прогревающими насквозь, оживляющими какие-то забытые, давно, думала, утраченные ею глубины надежды и дочерней нежности к жизни.
Однако облако стало растекаться и таять. Муха почуяла со страхом, как вся ее суть и жизненность, успокоенные только что и слившиеся со светозарным облаком, стали сжиматься, удобно и стыдливо умещаясь друг в друге, и холодеть, вновь погружаясь в ознобные волны одинокого, пространного и опустелого сна. Рассеялись под потолком землянки серебряные искры, Муха осталась, тяжелая, чужая, на жестком топчане. И почти тотчас же проснулась, захватив все же из сна, как выстиранный чулок из лоханки, мамины странные слова о Люсе и о солнце. С ней еще оставались каким-то чудом принесенные мамой тепло и уверенность, что в конце концов все будет очень хорошо — там, у мамы, вместе с мамой, под ее защитой и по ее воле. Но сейчас главное было — осознать, что означают мамины слова, о чем они в самом деле, а не во сне, и что необходимо теперь делать, чтобы не упустить что-то важное и одновременно не растерять подаренное теплым облаком утешение и прощенье. Жаль только, что почему-то про Вальтера Ивановича не сказала ничего мамочка, а ведь, наверное, знает хоть что-то, уж это наверняка…
Одно было ясно уже сразу: Люсе следует, конечно, уделять гораздо больше внимания, а то вот и мама как будто сердится, что редковато Муха заглядывает на Суворовский. Оттого, наверное, и напомнила о Люсе мама, что в последнем рейде Муха так ведь и не попала домой, сразу же и проснулась после позорной истории с усатой старухой. Кто знает? Факт то, что Люся голодает на Суворовском одна-одинешенька, и, значит, следует, как только появится возможность, уделять Люсе, как полагается.
И в этой связи очень, конечно, мирово получилось, что генерал Зуков поручил своей Чайке именно Ленинград, потому что этот город носит имя великого Ленина, почему фактически и попал в пиковое, как говорится, положение, — из-за ненависти гансов к этому ненавистному имени. По сути дела тут, конечно, радоваться особо нечему, тем более, если ты патриот и переживаешь на этом основании за родину, как и полагается. Но ведь, с другой стороны, если бы не блокада, пусть даже хотя бы и со снами фашистскими на чужих кухнях, где бесноватый фюллер свою оголтелую пропаганду развел, падла, еще и с бантиками голубыми для полной дезориентации мирного населения, да если бы не определил Чайке генерал Зуков именно данный населенный пункт почему-то, Ленинград, — так ведь только в мечтах и слетаешь домой с переднего-то края, а сны уже были бы постоянно московские какие-нибудь, согласно полученного приказа, с какими-нибудь Царь-пушками да Царь-колоколами, расколотыми вместо живой родной Люсеньки, за которую переживаешь весь день и ночь, если не очень занята. Причем, оказывается вот, не ты одна из-за нее боишься, а и мама откуда-то с облаков. А то вообще по-немецки бы спать приказали и обучили в два счета, если бы на Берлин поручили летать, — и шли бы сплошь сны берлинские, с рейхстагами, свастиками, гансовскими харями кругом, как уже однажды имело место, — до сих пор вспоминать противно. А так — хоть изредка все-таки домой заскочишь, — кто еще в подобных льготных условиях воюет?
И вот Муха снова, снова, снова летит над родным Ленинградом!