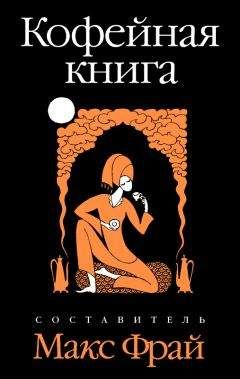Макс Фрай - Большая телега
Поэтому я буду рассказывать только про папу. Дядя Влахо сказал, что видел, как его убили. Я, конечно, не поверил — просто потому, что очень старался тогда не верить ни единому его слову; он, кажется, в какой-то момент понял, что творится у меня в голове, и не стал настаивать.
Потом, гораздо позже, когда война уже закончилась, нашлись и другие очевидцы папиной гибели. Большинство рассказов сходится на том, что его застрелил сербский солдат на пороге фабрики,[39] куда согнали всех жителей их квартала. Папа собирался просто уйти домой. Думаю, он не слышал приказа оставаться на месте, а если слышал, ушам своим не поверил. Это же действительно дикость — когда одни люди под угрозой расстрела запрещают другим людям идти, куда им заблагорассудится. Такое даже в мою нынешнюю мрачную голову плохо укладывается, а уж в папину, светлую и веселую, подавно.
Все как один говорили, папа умер мгновенно, не мучился, даже не испугался, вообще не успел понять, что происходит. Людям почему-то кажется, для близких это звучит утешительно: «он умер мгновенно». Но для нас с мамой это звучало просто как абсурдная фраза. Каждое слово по отдельности вроде бы имеет какой-то смысл, но, выстроившись в определенной последовательности, они его тут же утрачивают.
Мы долго хранили стойкость, но свидетельства продолжали поступать; мы уже не искали очевидцев папиной гибели, но они каким-то образом находили нас сами, считали своим долгом приехать и все рассказать — это нормально, правильно, я бы и сам на их месте, наверное, так поступил… Вода камень точит, и с нами, наверное, случилось что-то подобное, под натиском многочисленных свидетельств мы наконец дрогнули и в какой-то момент вдруг осознали, что папы больше нет. Я, наверное, знаю, когда это случилось. Однажды осенью девяносто седьмого года я приехал к матери на выходные, мы всего пару недель не виделись, и вдруг я заметил, что она как-то стремительно постарела лет на двадцать, не меньше. И только тогда до меня дошло, что папа действительно умер, как будто ее лицо было своего рода волшебным зеркалом, в которое я привык заглядывать, чтобы увидеть там собственную надежду, и вдруг оказалось, что она ушла, оставив за собой одни руины.
Но это я сейчас, задним числом, драматизирую; на самом деле утрата надежды не стала катастрофой ни для матери, ни для меня. Мы уже привыкли жить без отца и почти научились не ждать его телефонных звонков, хотя письма я ему все-таки время от времени писал, и до сих пор иногда пишу. Но это совсем другое дело, не имеющее никакого отношения к надежде. Некоторые люди ведут дневники, это для них, как я понимаю, что-то вроде разговора с самим собой; мне с собой беседовать не слишком интересно, а вот с папой — другое дело. Мало ли что не отвечает, он и при жизни письма писать ленился, да и некогда ему было.
В общем, мы справились и стали жить дальше. У мамы осталась ее работа, а я — ну что я. Я тогда был молод и жаден до жизни, только-только закончил учиться и, повинуясь сиюминутному импульсу, переехал из Парижа в Марсель, а там как-то неожиданно почувствовал себя на месте, как фрагмент пазла, который наконец положили куда следует, и вдруг стало ясно, что скрюченный желтый червяк в углу — это на самом деле лепесток хризантемы, а бледно-розовая клякса — отражение солнечного луча в стекле. Я хочу сказать, когда человек оказывается на своем месте, он — весь, целиком — внезапно обретает смысл. А человек, только что обретший смысл, плохо приспособлен к страданию, на таком все душевные раны зарастают мгновенно, как на собаке, вот и моя заросла.
Я слишком много говорю о себе, но это только для того, чтобы стало ясно: еще сегодня днем, когда я приехал в Париж, я был совершенно доволен собой и своей жизнью, то есть находился совсем не в том настроении, в каком обычно предаются печальным воспоминаниям. И даже когда по рассеянности отклонился от намеченного маршрута и вышел на бульвар Ришар-Ленуар, не стал травить себе душу размышлениями о несбывшейся папиной мечте, а наоборот, решил — это все равно что получить от него привет. Обрадовался, помахал рукой первому попавшемуся распахнутому окну, а потом свернул в сторону квартала Марэ, где живет одна моя хорошая знакомая, и мысли мои приняли совсем другой оборот.
А ближе к вечеру я отправился на набережную Монтебелло навестить друзей; кратчайший путь к их дому, если идти пешком, пролегает через острова Святого Луи и Сите, а их соединяет мост Сен-Луи. Вы же знаете, где это, правда? Мост Сен-Луи все знают, даже приезжие, потому что он совсем рядом с Нотр-Дамом. Туристов там всегда толпы, даже под вечер. И уличные музыканты этим пользуются, на мосту Сен-Луи вечно кто-нибудь пиликает и тренькает, я и сам в студенческие годы отирался там с флейтой в надежде на скорую поживу, не то чтобы часто, но случалось.
Но на этот раз там не «пиликали», и тем более не «тренькали», а играли старый добрый американский джаз. Я еще издалека услышал «Hot lips» и, конечно, не отказал себе в удовольствии подойти поближе — а кто бы на моем месте устоял?
Музыкантов было пятеро — труба, саксофон, банджо, стринг-бас и тромбон; самому молодому из них уже явно перевалило за полсотни, а банджист и вовсе мог сойти за непутевого младшего братца египетских фараонов. Но это я заметил, только когда ребята сделали короткий перерыв, чтобы промочить горло, а пока играли, они были людьми без возраста, не просто молодыми, а почти бессмертными. Но это неудивительно, с хорошими музыкантами всегда так, они не принадлежат этой земле, пока играют, а стареют только во время перекуров.
Что эти деды вытворяли со своими инструментами и нами, досужими зеваками, которым повезло оказаться этим вечером на мосту Святого Луи, говорить бессмысленно, я все равно не смогу рассказать об этом так, чтобы вы умерли на месте и тут же возродились, приплясывали, ликуя, прищелкивали пальцами в такт и гримасничали, заливаясь слезами, слаще которых нет ничего.
Неважно.
Я-то сам, конечно, неоднократно умер и возродился там, на мосту, и приплясывал, и щелкал пальцами в такт до тех пор, пока музыканты не устроили очередной перерыв. Трубач хлебнул воды и закурил, остальные пустили по кругу бутылку с сидром, благодарные слушатели забренчали монетами, а я присел на тротуар, чтобы немного перевести дух и достал из кармана очки. Я близорук, но очки носить не люблю, да они и не особо нужны, в принципе, я все вижу — приблизительно, в общих чертах, и это, как правило, к лучшему, ничто так не красит мир, как возможность дорисовать его детали в своем воображении. Но тут был особый случай, я хотел разглядеть лица музыкантов и увидеть, как они преобразятся, когда зазвучат первые такты очередной мелодии. Я надел очки и, собственно, только тогда понял, насколько древний у них банджист, и трубач-певец гораздо старше, чем мне сперва показалось, зато саксофонист и басист, напротив, моложе, чем я думал, а тромбонист… О господи. Тромбонист.