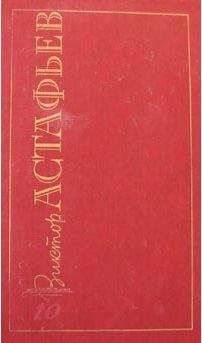Виктор Астафьев - Царь-рыба
Никакой другой земли, никаких других станков и жилищ Акимка до поступления в школу не видел. Он родился в Боганиде и нигде не крестился, даже записан ни в какую книгу не был. Вольно родился от русского человека, который поколотился на Севере, подзашиб деньжонок и исчез навсегда, оставив матери Акима еще одного ребенка, как потом выяснилось, Касьянку. Отца ихнего Касьяном звали — пояснила мать. Записываясь в школу, Акимка повеличал себя Касьянычем, но говорил он неразборчиво, зажимая звуки, и его записали Хасьянычем. Хасьяныч так Хасьяныч — какая разница?
Мать, узнав об этом, закококала болотной курочкой, руками захлопала, будто школьница на празднике, и повторяла свое любимое: «Ё-ка-лэ-мэ-нэ! Ё-ка-лэ-мэ-нэ!»
Мать рано стала носить детей. Его, первенца Акимку, прижила на шестнадцатом году. Мужик Касьян, рассказывала она, подарил чулки и платок, сладкими пряниками угощал, красным вином. Ну как такого хорошего человека не полюбишь? Она и полюбила его, приголубила, совсем не думая о том, что из приятной такой шалости получится ребенок, человек! И когда опросталась в бараке и ей показали завязанного в узелок, сморщенного, извивающегося дитенка с голыми деснами, слепо склеенными чем-то белесым глазами, она недоверчиво, даже как бы и брезгливо фыркнула: «Фу, какой Якимка, ё-ка-лэ-мэ-нэ! Мой, сто ли? Не мо-озет быть!..»
Почему не может быть, почему — Якимка? Где она такое имя слышала, отчего оно ей в голову пришло? Поди у нее узнай! Мать была и осталась девчонкой-подростком по уму и сердцу. Обижать пробовали бабы, прозвать ее ветренкой — не прилипло, потому что мать не понимала обидного смысла этого слова, и ее обзывать перестали, и вообще ее никто потом и никогда не обижал, бабы помогали ей чем могли, мужики тоже помогали и ласкали. Быстренько образовался табунок детей в Боганиде. «Чьи?» — спрашивали мимоезжие люди. «Рыбацкие», — смеялась мать. «Наши!» — подтверждали рыбаки.
Артель, обеспечивающая рыбой большую северную стройку, не оседлая. Народ в ней почти каждую путину менялся. Оставались постоянно на месте бригадир, приемщик, радист и пекариха, она же кастелянша, завхоз, ворожея, акушерка, всем мать по возрасту и нраву, матерщинница и плакса — Афимья Мозглякова. За что-то еще до войны она отбыла срок, застряла на Севере и все грозилась куда-то податься, плюнуть тут на все. Но Север, он вяжет человека, пожалуй, еще крепче, чем юг. Там люди, как бы всё разом получив: тепло, блага, человеческую скученность, лениво мнут свои дни в тесноте и довольстве. Здесь, отравленные волей, редколюдьем, самовластьем, все время ждут каких-то перемен, томятся сердцем по другой жизни, и всегда есть возможность капризно подразнить себя и других тем, что вот возьмет он, вольный человек, и махнет туда, на юг, к фруктам, к теплому морю; эта возможная, но чаще всего так в мечтах и изношенная, вторая благостная жизнь шибко поддерживает северных людей в их нелегкой текучей жизни, крепит их дух и стойкости им добавляет.
На всполье, в урез берега, мужики вкопали низкую однооконную избушку, мало чем отличающуюся от бани. В этой, всегда почти темной избушке, на обширных нарах и топчане, приткнутом к печи, сваренной из толстого железа «пароходными людьми», копошились, ревели, питались, играли и росли ребятишки — Акимкины братья и сестры. Мужики приносили стирать белье, что-нибудь упочинить или зашить. Поначалу мать ничего не умела — ни стирать, ни шить, ни варить. Но «заставит нужда калачик есть», говорили ей пословицу, и хотя она не знала, что такое калачики, помаленьку да потихоньку захомуталась в семейную упряжь, однако так и не смогла до конца одолеть трудную науку — бороться с нуждой. Чему учить ее не надо было, так это легко, беззаботно и весело любить ребятишек и всех живых людей. Даже в самые голодные зимы она не желала смерти детям, да и сама мысль о смерти, как избавлении от бед, мучений и нужды, не приходила ей в голову, оттого, наверное, и падежа в семье не было.
Ребятишки, прозванные касьяшками, росли вольно, без утеснений и досмотра. Самой для них большой заботой и радостью было дожить до весны, до солнца, до тепла, до рыбы, до ягод, да и вся Боганида ждала весну, как милосердие божье. Запертое в сырой, удушливой избушке, до трубы скрытой в забоях, отшибленной от остального мира снегом, много месяцев зимогорило семейство, ребятишкам казалось — годов! И наконец-то! Которые в лохмотьях, которые и вовсе голопупые, грязные, выбирались детишки на свет из пропрелой, вонькой норы.
Ослепленный ярким светом, задохнувшийся обжигающе-свежим воздухом, выводок ребятни не прыгал, не ликовал. Протирая красные, слезящиеся глаза кулачишками, дети недоверчиво осматривались, открыв рты с кровоточащими от цинги деснами, подставляли живительному теплу блеклые лица, вытягивали ладошки под солнце. Головы у них кружились, ярким светом резало глаза, они лепились на завалинке, подобрав под себя ноги, чуя ослабелым темечком живительное тепло, улыбались и подремывали; которые покрепче, тоже бледные, с засохшей на губах кровью, ковыляли на ослабелых ногах к высокому еще, первой, вольной водой вздутому Енисею и не умывались, а щупали его ладошками, и от живой, целительной воды начинало трепыхаться в них сердчишко, они, повизгивая, брызгались и пробовали смеяться.
Мать приносила ножницы, стригла ребят, будто овец, прямо на берегу. Ветром подхватывало и уносило в воду сплошь почти смоляные, черные волосья. Лишь двое первенцев — Акимка и Касьянка волосом удались в отца — неведомый Касьян гнул северный, проволочно толстый волос своей крепкой породой.
Нагрев бочку воды, мать мыла ребятишек. Они боязно ахали, ревели от мыла, царапали сами себя ногтями. Мать, сверкая белозубым, широким ртом, только и успевала повторять: «Ё-ка-лэ-мэ-нэ! Ну да, ё-ка-лэ-мэ-нэ!» А обиходив ребятишек, и сама залезала в бочку, взвизгивала, коснувшись голым телом воды, похохатывала от щекотки, когда Касьянка терла ей таловым вехтем спину. Обобрав с себя накопившуюся за зиму грязь, касьяшки потом смело уже ходили в артельную баню.
Причесав на пробор коротко стриженные волосы, мать доставала с полки наперсток красной помады, слюнявила ее, подводила губы, надевала мятое платье морошкового цвета, коричневые чулки, туфли на высоких каблуках, косынку с голубями и нерусскими буквами — и становилась такая нарядная, что и не верилось, будто эта вот беспечная, чем-то и в чем-то чужеватой ставшая девушка — их, касьяшек, мать! А она, дурачась, еще и на каблуках крутнется: «Хоросо?»
Как не хорошо! Промытые волосы отливали воронью, перышки бровей, как бы вдавленные в лоб, придавали лицу какую-то детскую незавершенность и безвинность; круглое плоское лицо оживляли две надщечные продолговатые косточки со слабым румянцем, и только глаза с вечной тихой печалью северного человека всегда погружены в себя и в какую-то застарелую тоску, о землях ли благостных, с которых вытеснили их завоеватели в далекий полуночный край, о людях ли, которые жили до них и будут жить после них. Никому еще не удалось объяснить эту вечную печаль северян, да и сами они объяснить ее не умеют, она живет в них, томит их, делает кроткими добряками, которые, однако, при всей простоте и кротости никогда и никому до конца открытыми не бывают и жизнь свою, особенно в тайге, на промысле, обставляют если не таинством, то загадочными, наезжему человеку непонятными обычаями и ритуалами.