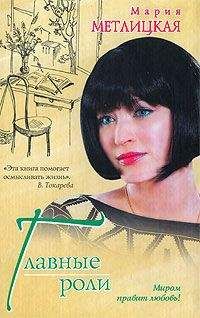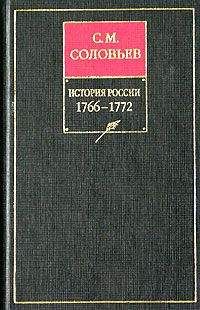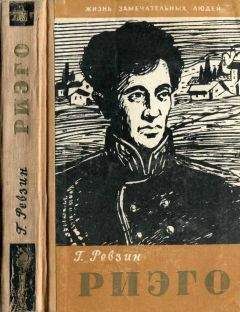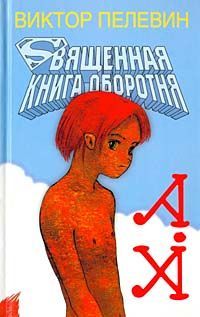Мария Метлицкая - Миленький ты мой
Говорила: так я себя успокаиваю. И все по больницам – то одно, то другое. Посыпалась вся. А чувство юмора не теряла! Смеялась: «Ты все пела – это дело! Так пойди же, попляши!» – И тут же кряхтела: Лидка, я и плясать не могу!»
– А ничего, – храбрилась она, – до сорока прожила, как принцесса – красивая, здоровая, любимая. Весело прожила, дай бог каждому! Есть ведь что вспомнить, а, Лид? А теперь… Ну что же… Не может ведь все быть хорошо бесконечно!..
Оптимистка. А было ей плохо – ни мужиков, ни денег. Сплошная тоска. Деньги ведь всегда доставались от любовников. Евка любила богатых – кавказцев, торгашей, дипломатов. Подарки – бриллианты и тряпки. Всего было вдоволь. Но больше всего Евка любила кутить – с шампанским, танцами, с песнями. Загульная была, шалая. Любила кураж. Говорила, что дед был из купцов. А тут осталась ни с чем – приходил только Петюня и приносил в авоське вялые кабачки и картошку со своего огорода. А остальные все испарились – как и не было. А Евка моя, беззаботная стрекоза, в отчаянье не впадала.
С Евкой мы разговариваем раз в неделю – больше я не хочу. Тяжело. И вспоминать ничего не хочу. Даже хорошее. А уж про нынешнюю жизнь – вообще противно. У Евки осталось два зуба. На дантиста денег нет. Вставную челюсть не носит – сделала в поликлинике «за бесплатно», а носить не может. Все трет, все слетает. Уроды! Живет на пенсию и Петюнины подношения. Драгоценности давно проедены – да и попробуй сейчас продай! Всего ведь навалом. Смотрит телик, и эту муть мы с ней потом обсуждаем. Тоска. И еще всякие разговоры про бесконечные болячки: «Я, Лидка, разлагаюсь! Ты слышишь? Каждый день у меня что-нибудь отмирает! По кускам, по частям!» И на Евку смотреть тяжело: сидит беззубая куча и воет. И на себя тяжело смотреть… Отвратительно даже! Евка говорит, что надо все зеркала повыбрасывать.
Может, и так. Но надо ведь умываться, причесываться… Соцработник заходит, врач, медсестра. Педикюрша Тамарка…
Вот и все мое общество. Да… Вся моя нонешняя тусовка. Вся моя светская жизнь.
Ну и как это слушать? Договорились, что созваниваемся по понедельникам. Мне хватает. Я вообще сейчас много сплю. Она – наоборот, совсем не спит. А снотворное выписывают по крохам. Смотрит по ночам фильмы ужасов. Ужас! Еще любит поныть про детей: «Ох, Лидка! И зря мы с тобой не родили! Вот сейчас бы смотрели за нами! И были бы мы в чистоте и порядке». И давай вспоминать все наши аборты… И нашу абортессу придворную, Марью Степановну. Кошмар!..
Ненавижу я все эти разговоры! Что болтать, когда ничего не изменишь? И об этом, кстати, я никогда не жалела! Угробить свою жизнь на этих детей? Так хоть есть что вспомнить…
Раздражает она меня! А что делать? Люблю я ее, а раздражает. То ржет, то рыдает. Тяжело мне с ней…
Мне и с собой-то тяжело… Все тяжело. Такая вот жизнь…
Никогда бы и представить себе не могла – ни беспомощность свою, ни нищету. Хотя рядом с Евкой я – богачка. Пенсия у меня за Краснопевцева – вполне можно жить. И квартира! Она все советует: продай свои хоромы и доживай жизнь в достатке! Требует даже. Орет, что я идиотка. А мне хватает! Вполне. Это она мечтает о крабах, рокфоре, балыке и черной икре. О шампанском. А я всегда была к еде равнодушна – особенно к деликатесам. Наверное, сказалось голодное детство. Люблю все простое – картошку с селедкой, например. И мне довольно. Про тряпки и говорить нечего – вон, полный шкаф. Приволье для моли, Клондайк. Жрет там небось и радуется. А куда надевать эти тряпки? Раз в год в поликлинику на анализы? Смех, да и только! Поди, все истлело. Я туда даже не заглядываю. Еще Поля туда, в шкаф, обожала нафталину закинуть – тоннами прямо. Все боялась, что шубы мои моль пожрет. А мне наплевать! Приятного аппетита! И запах нафталина, кстати, я совершенно не выношу! Сколько раз просила ее: Поля, не надо! А ей все равно. Упертая была – жуть! Все по-своему, все.
Расстаться с квартирой? О господи! Да мне даже страшно подумать! Здесь – мой остров. Мое укрытие. Моя нора и мое спасение. Только здесь я чувствую себя защищенной. Только здесь мне спокойно и хорошо. А Евка орет: «Ну а потом? Когда ты преставишься… Кому это все? Государству? А так хоть на благотворительность отсыплешь – на том свете, глядишь, и зачтется! Церкви подбросишь – тоже в зачет».
Что мне церковь? Я в Бога не верю. Мама верила, да. Иконки держала, молилась втихую. А нам не привила – не то было время. Дед мой, мамин отец, был священником. Только умер совсем нестарым – от пневмонии. Мама рассказывала, что дед был слаб здоровьем, все время болел. Здоровьем слаб, а духом силен! Многих людей поддерживал, многим помог. А бабка моя, его жена, осталась одна… в сорок лет. Замуж больше не вышла, а ведь звали. Красивая была, очень – статная, высокая, стройная, с длинной косой. С глазищами в пол-лица. Королева!
Очень верующей была: посты соблюдала, Пасху справляла. Помню, как бабка моя пекла куличи – высокие, царственные. Правда, пустые… Что туда было класть? Ни изюма, ни цукатов – одни лесные орехи. И то, если были.
Пекла их в печи, а потом укрывала от нас, чтобы раньше времени мы их не трогали. А нам так хотелось!.. А уж когда разговлялись… Тут нам и раздолье! Помню, масла не было, и мазали мы их вареньем.
А потом бабушка умерла… Помню похороны и блины с кутьей – соседки готовили. Лежала она в гробу нарядная, строгая – платье в цветочек, белый платок. И очень красивая! Даже там, на смертном одре.
Вот тогда мы окончательно осиротели: не было папы, и не стало бабушки…
Храм, где служил мой дед, скоро закрыли – сделали там склад «сельскохозяйственной продукции». Запах стоял!.. Свекла гнила, капуста, картошка… Кладбище овощей!
После ареста папы совсем стало плохо. Тогда мы боялись, что заберут еще и маму. Я слышала по ночам, как мама вздыхает и плачет в подушку. Еще слышала, как она молилась. Иконку держала под подушкой – не дай бог, если найдут!.. Дочка священника все-таки…
Я часто думала: как повезло моему деду! Как вовремя он скончался и не дожил до ГУЛАГа.
Мамочка моя… Бедная, бедная. Ничего в жизни не видела – только тяжкий труд и беду. Я не помню, чтобы она смеялась. Чтобы радовалась чему-то. Чтобы хотела нарядиться, накрасить губы. Нет. После ареста папы она вроде как умерла. Была неживой, ко всему равнодушной.
Думаю, держалась на свете только из-за нас, из-за детей. Я и брат Коля. Мой младший брат. Хроменький, инвалид. Голова была светлая, а еле ходил. Дотянула нас мама кое-как и… скончалась. Часто мне выговаривала: «Лидочка, ты только Колечку не бросай! Обещаешь?»
Я обещала. Но… слова своего не сдержала.
Домик наш в Коломне я помню отлично: маленький, чуть кособокий, в два окна. Печка большая и шустрая – разгоралась быстро и весело. Щедро тепло отдавала. Две комнатки: главная – так говорила мама – и наша, детская, с братом. Мама много вязала – только этим, как сама говорила, и спасалась. Свяжет кофту, я поношу ее месяц и – распускает. Мне было жалко, я плакала. А она утешала: «Лидочка, ты не плачь! Мне так нужно, детка моя».