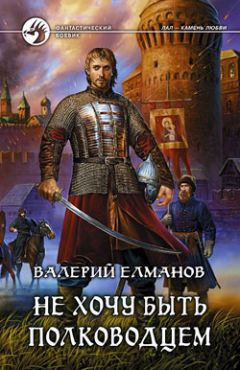Александр Щелоков - Хрен с бугра
— Бесподобно! Вот это выстрел!
Стало темнеть, и канонада утихла. Все выбрались из камышей. Вышел на твердь и наш Гость, разрумянившийся, довольный. Отдал ружье дюжему молодцу из плотного сопровождения. Оглядел свои сапоги.
— Позвольте, Никифор Сергеевич, — засуетился Первый. — У вас тут совсем немного…
Он тяжело нагнулся и, черпая ладонью воду из бочажка, стал отмывать кус грязи, прилипший к заднику резинового сапога Хрящева. Дело было довольно непростым для человека, наработавшего трудовой мозоль ниже груди. От потуг он побагровел, но продолжал сгибаться и разгибаться, черпая воду ладонью и наводя блеск на черную резину.
Дорогой Гость на протяжении всей операции стоял спокойно, не глядя на старания других, и лениво говорил с помощником о каких-то письмах, которые подпишет завтра, вернувшись в резиденцию.
— Готово, Никифор Сергеевич! — разгибаясь и тяжело дыша, доложил Первый.Лицо его светилось радостью исполненногодолга.
— Пошли? — предложил наш Дорогой Гость без особых эмоций и тут же положил руку на плечо Первому. Тот от такого доверия засиял новыми красками.
Я посмотрел на него и вдруг сделал для себя невероятное открытие. Не раз и не два приходилось быть свидетелем такой картины. Проводя важные заседания у себя в кабинете, Первый иногда брал трубку телефона дальней связи — ВЧ, как его у нас называли, и набирал номер. Дождавшись отзыва, заводил разговор с людьми, чьи имена без расшифровки говорили сами за себя. Тем более, что фамилий в таких случаях не называлось.
— Фрол, это ты? — и мы знали: по ту сторону на проводе Фрол Баранов — еще один Большой Человек Москвы. — Ну, слава богу, начал меня узнавать по голосу, — говорил Первый. — Да нет, не в упрек. Просто ты немного зазнался. Нет? Замотался? В это верю. Ладно, потом. Сейчас меня волнует другое. У нас ерш пошел. Метра на полтора штучки ловятся. Ну, конечно, севрюга. А с размерами не шучу. Так, когда тебя ждать? Не сможешь? Ну зря. Рыба даже тебя ждать не будет. Ладно, парочку свежих пришлю. Но это не то, что мог поймать сам. Да, кстати, Никифор на месте? Ну будь, я ему позвоню…
И опять палец в диск телефона.
— Это ты, Сергеевич? (не товарищ Хрящев, не Никифор Сергеевич, а запросто так — Сергеевич). Да вот, решил доложить. Зерновые у нас на уровне. Так что будь спокоен. Не подведем. Конечно, Сергеевич… Тут мы всем сомневающимся напоминаем твои слова. Так точно. Я тебя понял. Как только выберу время — всё и сделаю. Нет, сейчас не могу. Как не могу? Да просто так, не могу и все. Времени нет. Ну, ладно, договорились. Есть. Привет!
Повесив трубку, Первый выпрастывал живот из своего руководящего кресла, потягивался, как кот на солнышке, делал несколько шагов вдоль громадной рельефной карты Советского Союза, висевшей на стене за его спиной, потом останавливался и спрашивал:
— Так на чем мы остановились? Да, кстати, товарищи, Никифор Сергеевич Хрящев просил передать привет. Всем, всем. А теперь продолжим работу…
Общение с Высокими Именами Москвы по телефону, напоминавшее сеанс спиритизма, было постоянным аттракционом в репертуаре Первого. Но вот, увидев сцену с сапогом, я понял: те разговоры сплошная липа. Как уж с нее лыко драли — вопрос другой, но обман был, это точно!
Вернулись в город мы заполночь. Гость двинулся в резиденцию. Все остальные — по домам. Я поехал в редакцию. Не работать, естественно, а чтобы обозначить свое появление у идеологического станка, дабы не было в будущем нареканий.
В типографии машины уже гнали из-под себя тираж. В дежурке пахшую керосином газету читал бдительный ловец грамматических блох и политических ляпов Иван Байков — «свежая голова».
У Главного в кабинете горел свет. На правах позднего гостя я вошел к нему без стука.
Зернов сидел за столом, на котором со всех сторон громоздились книги и кипы бумаг. Такого хаоса созидания я не видел на его творческом верстаке никогда ранее.
— Даем стране угля? — сказал я шутливо, чтобы хоть немного снизить серьезность момента. Шутливость скрывалась в известном шахтерском выражении: «Даем стране угля, хоть мелкого, но до…». Короче — много.
— Вернулся? — спросил Зернов и поднял на меня глаза, красные, воспаленные. — Как там Каширинские Кочки? Бульдозером их еще не сровняли?
— Что с ними сделается? — сказал я с оптимизмом. — Мы о них еще поспотыкаемся.
— Я свое отспотыкался.
Зернов устало поднялся и положил руки на кипы книг, громоздившихся на столе. Поглядел на меня с видом загнанным, обреченным. Сказал:
— Знаешь-ка, иди отдыхать. Завтра это место обживать будешь.
— Что так? — спросил я, угадывая за его словами обычную неуверенность человека, который проделал нелегкую работу, остался ею удовлетворен, но переживает — как-то ее оценят другие. — Или что не сделал?
Это «не сделал» я произнес еле слышно, ибо то, что делал Главный, не стоило называть во всеуслышанье. Ведь если каждый раз называть авторов, которые пишут речи для Больших Людей, то величина их гениальности в глазах общественного мнения быстро скукожится и упадет окончательно.
— Наоборот, сделал, — ответил Зернов.
— Тогда и бояться нечего, — бросил я оптимистический прогноз. — Хотя ты, может, и прав. Понравится там, — я кивнул головой в сторону, где должно было понравиться, — и поехал наш Константин Игнатьевич на харчи московские. Небось, и здороваться перестанешь?
— Кто с кем — еще вопрос, — сказал Главный загадочно и протянул мне руку. — Давай, давай, иди домой. А я еще посижу…
Так и ушел я, ничего не зная, ни о чем не догадываясь. А подвиг уже вершился. Подвиг чести. Подвиг правды.
Утром на пороге редакции меня встретила сторожиха тетя Феня. Окинула испуганным взглядом сверху до пят и сказала тревожно:
— С утра звонят и звонят. Вас товарищ Коржов из обкому по неотложному делу разыскивают…
Получив информацию, я изменил курс движения и, не заходя к себе, направился на Олимп.
Коржов, откровенно расстроенный и как-то непривычно взъерошенный, встретил меня вопросом:
— Ты-тохоть не соучастник?!
— О чем вы? — не понял я.
Искренность моего изумления несколько успокоила Идеолога.
— Значит, не знаешь? — спросил он.
— О чем?
— О том, что выкинул твой Главный?
— Что он выкинул?
— Что?! Да хуже и не придумаешь! — голос Коржова был полон тревоги и раздражения. — Утром к семи он представил в резиденцию Никифора Сергеевича свои тезисы…
— Но так же и было условлено. Сегодня, к семи…
Я старался успокоить Идеолога. Мне казалось, Главного обвиняют в том, что он не показал свои записки здесь, на местном Олимпе, а сразу передал их Большому Человеку.
И тут Коржов полыхнул взрывом.
— Что было условленно?! Что?! Ты хоть отдаешь отчет, о чем говоришь?
Мне потребовалось подробное объяснение. Оказалось, что вместо доклада Зернов написал записку в ЦК партии. На САМОГО. В записке он доказывал, что ликвидация и даже простой зажим личных крестьянских хозяйств, то есть все, что предлагал сделать товарищ Хрящев, окончательно подорвет систему продовольственного снабжения страны, поставит общество на грань голода.
— Он сдурел, ваш Зернов, — бушевал Идеолог. — Как вы в редакции его не разглядели?
Я промолчал, хотя мог сказать, что он не только наш, но и их, и что о н и тоже должны были разглядывать Главного пристальнее нашего.
— Ты знаешь, какой ОН сделал вывод? — спросил Коржов, заметив мою индифферентность.
— Откуда мне знать…
— А знать надо. Он договорился до того, что назвал политику товарища Никифора Сергеевича политическим авантюризмом, а его самого безответственным и бездумным человеком.
— Не может быть! — изумился я.
— Может! — сказал Коржов. — В девять тридцать собираем бюро обкома. Будем выводить его из состава за грубые политические ошибки и решать вопрос о новом редакторе газеты.
Фамилия Главного при этом не называлась. Она теперь попала в тот ряд не называемых лиц, с которыми вместе из нашей славной истории ушел подлинный историзм. Зато мгновенно выплыло и полновесно прозвучало слово «грубые политические ошибки». Под эту графу у нас людей подводили в тех случаях, когда надо кого-то припечатать пожестче, чтобы потом размазать по стенке. Лаврентий Берия был подлецом и живодером. Но его тоже для вящей силы публично назвали «агентом мирового империализма». В самом деле, что мелочиться? Бить так наповал, навсегда.
Заседание Бюро открыл Первый. Выглядел он совсем не браво и речи его я толком почти не запомнил. В памяти осталось немногое:
— Зернов опозорил… Черное несмываемое пятно… Не оправдал высокого доверия… В наших рядах не должно быть колебаний… Наш Дорогой Никифор Сергеевич олицетворяет ум и честь… Если дано задание, то как солдат… Дисциплина есть дисциплина… Если бы партия нуждалась в мнении Зернова, ему бы сказали… Самостийник… Демагог… Отщепенец…