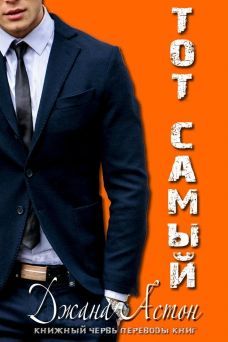Владимир Личутин - Сон золотой (книга переживаний)
«Ухайдакался Вовка-то задень, – еще слышу жалостный голос тети Анисы. – Как вырос-то, и не заметили. Мужичок стал, вот и покуривает. Счастливая, ты, Тоня». – «Ага. Всем бы такое счастье, – глухо откликается мама. – Знала бы ты, Аниська, как трудно без мужа детей ростить. Не приведи Господь.»
Утром гости съехали. Я выскочил из дому раньше всех, сунул присоленную горбушку рыжанку; у него были желтые зубы неровным частоколом. Следом появился дядя Глеб, хмурый, с цигаркой в зубах, деловито выбил оленную полсть, прикрывавшую кладь, застелил заново, чтобы супружнице было удобно. У дяди с утра колючие от щетины, обвисшие щеки, оловянные с похмельной наволочью глаза, просящие милости. Эх, разговеться бы стопариком; стакан горячего чаю не спасал его. Гости повалились в розвальни, дядя Глеб без настроения шевельнул вожжами, я запрыгнул на наклесток саней, улегся клубочком, будто кошак, положил голову на край оленьей шкуры и закрыл глаза. Вжикнули протяжно полозья, зашелестели по снежному сувою, заскрипели копылья, ёкнула лошажья селезенка, звучно шлепнуло на дорогу конье пахучее яблоко, пролилась струя горячей урины, прожигая снег. Лошадь взмахнула хвостом, смазала вознице по щеке, дядя Глеб беззлобно матюкнулся на лошадь, воскликнул: «Ах ты, волчья сыть – травяной мешок». Тетя Аниса засмеялась...
* * *«Душа неизъяснимая»
«Когда-то, приручив лошадь, человек впервые почуял крылья и стал всесильным. Орлы витали над головою в занебесье, вороны и грифы кружились под солнцем, как полдневный дух, но это были существа иного, недоступного мира, чужих стихий; а лошадь с мягкими приобвисшими губами и длинными раскосыми влажными глазами, досель скитающаяся по травяным угодьям, однажды поменяла волю на угождение и службу, решительно подпятилась под человека и стала ему не только надежным слугою и помощником, но и верным другом. Ведь поэтической метафорой не стал грозный беркут, вьющий гнезда на Алтае, иль белый сокол с заполярных Шехоходских гор, древний вран иль мудрая ночная дозорщица сова; это символы царей, мудрецов, звездочетов и колдунов. Но Пегаса пытается обуздать и поставить в свое лирическое стойло каждый восторженный мечтатель, обручившийся со стихами; лишь конек-горбунок может поскакивать с долины на долину, с горы на гору, да через широкие реки. Хотя „редкая птица долетит до середины Днепра“, – писал Гоголь. Это головою гривастого коня венчался охлупень северной деревенской избы, ибо конь-вестник ярила и само солнце.
Это нынче на конях ездят лишь богатые (бывшие «партайгеноссе»), самодовольно свесив брылья на жирную шею, расплывшись геморройными подушками на скрипучем, шитом серебром и золотом седле. Прежде же «летала на конех каждая восторженная русская душа, только-только научившись ходить на слабых ножонках; почитай вся Русь обручилась с лошадью, едва выпав из пеленок, то ли в тарантасе под кожаным фартуком, то ли в походной вьючной торбе, то ли в скрипучей кошеве, то ли в санях-розвальнях под медвежьей полстью. А вчастую на Руси и рождались в телеге на клоке сена, торопя опростаться свою мамку, коли приспела пора, ночь не в ночь, хотя бы и постой уже ждал за поворотом. Говаривали по такому случаю: „Рожать да хоронить – нельзя годить“. Или: „Развязался мешок и посыпался песок“.
Как мне памятна эта картинка из детства: вьется тусклый, как бы стеклянный путик, пофыркивает заиневелая мохнатая лошадь-мезенка, мотает длинной головою, и в лад поскоку что-то поуркивает, похрумкивает в утробе, мотается у передка пошевней закуржавленный от мороза хвост, мерно повизгивают полозья «вжик-вжик», и ранняя луна-молодик, цепляясь за вершины елинника, словно привязанная к задку саней на длинную нить, все боится отстать от возка, неотлучно катится следом, переныривая из одной небесной иордани в другую; ино понужнет седок, очнувшись от дремы, беззлобно перетянет вожжою по бокам, оставляя мглистый след, и лошадь недоуменно покосится, мерцая лазоревым глазом, шумно пустит пар из ноздрей и лениво припустит с горки, вихляво мотая крупом, прибулькивая черевами, словно в брюхе у неё нескончаемо варится сытное пойло.
Закроешь глаза, откинувшись на подстилку, и в голове начинается странное, маятное круженье, и ты, будто пушинка в морозной тишине, плавно воспаряешь от саней к сиреневой кулижке, где резво купается крохотный серебряный грошик. И это же не только мое грустно-радостное, почти восторженное впечатление детства, но с таким же чувством пережитого праздника ушли в жизнь десятки миллионов моих сверстников, теша в груди эту затрапезную, в общем-то, будничную и совсем неяркую картину для непосвященных, как памятный знак родины. В санях в долгом зимнем пути, в кошевке, запряженной в удалую тройку, иль на зыбком возу пахучего летнего сена под самым небосводом скоро сочинялись и вызревали любовные истории, порою завершаясь драмой, творились деревенские судьбы и затевались дети. Мой прадед восьмидесяти лет, в одиночку навив воз сена, зимою возвращался с лугов в деревню, сани раскатило на дороге, и он, размечтавшись, свалился с волочуги на промороженную колею, крепко разбился, а, зайдя без посторонней помощи в избу, залез на печь и умер.
«А какой же русский не любит быстрой езды!» – воскликнет нынче каждый из нас, нахлестывая не круп лошаденки, а выжимая газ машины, уже не считая верст под колесами, угорая от скорости.
Нынче только богатые щеголяют выездкой, лосинами, хлыстом, сытыми лядвиями, стараясь выпрямить горбатую спину, уставшую от ростовщических конторок и ресторанных сделок. Всё «кладбище бифштексов» подпрыгивает в лад коньему поскоку, и с каждым вздергом тела от макушки до пят всадник испытывает не столько здоровую страсть, душевное удовольствие и сердечный азарт, но невольно прикидывает задним умом, а «сколько сантиметров здоровья» прибыло в его утробе от выездки и насколько тверже, исправнее будут работать его уды. Весь организм уже привычно отлажен для получения практической выгоды и снятия «стресса» и, подавая лошадь вперед, наездник тайно рассудком остерегается «полета» и неумолимо боится матери-земли. Ведь с ударом всадника о земную твердь могут отлететь и нажиток, и здоровье, а то и сама жизнь. Только молодому и бедовому, кого ни что на свете не держит за руки, подвластен полет. Крылья вырастают за плечами лишь при бесшабашности, отчаянности, когда плоть лошади и плоть лихого наездника сливаются в единое тело, и порыв тугого ветра в лицо выбивает всякую рассудительность, страх и остерег.
Помню, мы в детстве ездили охлупью, без седла, вместо узды с железной закускою, простая веревка. Хорошо, если кобыленка попадется здравая, рожалая, с широкой, как лавка, слегка присогнутой спиной; но нередко наделяли в работу старого мерина, у коего хребтина, будто нож, впивается меж твоих тощих мальчишечьих подушек, стараясь рассадить надвое твое заморенное тельце. Напрасно гонять лошадь не дозволялось, обычно ребятишки были кучевозами, подтаскивали на покосе копны к стогу; скотину щадили, берегли, напрасно не лупили. Но вечерами наступали сладкие восторженные минуты, когда не было возле старших, наперегонки скакали галопом на водопой уже во всю детскую безжалостную страсть, нещадно колотя в лошажьи бока босыми пятками, и сколько раз приходилось совершать кувырки через голову коняги на мать-сыру землю, испытывая восторг от неожиданного полета, – и всегда Бог хранил нас. Из таких мальчишек и вырастали на Руси бесстрашные всадники, отчаянные рубаки, конные отряды русов-витязей знала, долго помнила и боялась Европа и Азия.
Приучиться к седлу мне так и не пришлось. Но чувство полета, крыльев за плечами, заговоренности я не раз переживал в юности и поныне храню в сердце это легкое безумье скачки, азарт и сердечный сполох и странный внутренний покой, уверенность и тайное знание, что ничего с тобой не случится, – когда копыта лошади уже не касаются земли, и ты, слившись с распластанной гривой, сжавшись в тугой комок, плавно отрываешься вместе с конем от росной луговины в небо.
Предпоследний раз я садился на коня двадцать лет назад в Киргизии на Иссык-Куле. Я – московский гость. Ради меня собрались выездкой на соколиную охоту. Выгоревшее, с хрусткой травою предгорье, пронзительно синее небо, далеко внизу искристая хрустальная чаша озера. Мне помогли взобраться на лошадь. Седло высокое, будто трон, ноги забраны в короткие стремена, колени почти у холки. Я внутренне скован, с опаскою взглядываю на землю. Хозяева, чмокая, боясь за важного московского гостя, пытаются взять поводья, но тут что-то опойное, азартное толкается в грудь, я дико вскрикиваю и, паруся полами пальто, как в юности, мчусь галопом по узкой длинной улочке. Какой восторг, какая дивная скачка. Потом в конце деревни поворачиваю назад; киргизы охают, бьют в боки «вай-вай», а я счастлив, мне непонятно, чего так напугались охотники, чем так растеряны, отчего они в тревоге галдят на своем языке и по-птичьи цокают. После охоты на фазанов – достархан; ныряя пальцами в подливу с лапшой и кусками мяса, едим бараний бишбармак. Все начальство улуса за трапезой, льется рекою водка, и вдруг первый секретарь райкома партии грозно вскинулся на меня: «Москва всё наше мясо съела!». И тут же споткнулся, прикусил язык. Лишнего сболтнул. Настороженная, гнетущая тишина; все уставились на меня: «Если бы не Москва, вы бы землю ели!» – горячо воскликнул я, и все пирующие согласно закивали, пряча взгляд в кошму, потянулись ко мне с рюмкою, чтобы выпить заздравную чашу за столичного гостя. Увы, мое остережение уже через семь лет оправдалось, когда самостийные республики под байской рукою резво побежали прочь от России-матери, а их подданные, спасаясь от голода, потекли к нам...